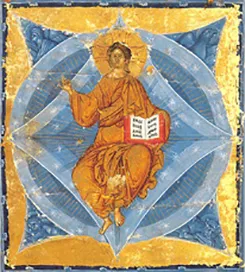Поправки к статье «Несколько слов о состоянии церковно-школьного образования в Полтавской епархии и о новых мерах к поднятию его» 1897г.
Недавно на страницах «Киевского слова» (№ 3505 и 3508) неизвестным анонимом, скрывшим себя под именем Полтавца, под вышеприведенным заглавием помещена о церковных школах Полтавской епархии длинная, в двух номерах, статья резкого тона и вызывающего характера. Статья эта снабжена ссылками на официальные данные местной отчетности и построена так, что способна ввести в обман не осведомленного об истинном положении дела доверчивого читателя. Поэтому мы в интересах истины и дела школьного считаем себя обязанными представить к указываемой статье надлежащие поправки и разъяснения.
Последуем ходу мыслей статьи.
Показав количество школ и число учащихся в Полтавской епархии к началу 1895/96 учебного года, статья замечает: «по-видимому, (церковно-школьное образование) здесь не то чтоб очень хорошо, но и не совсем уж плохо; но вглядимся в сущность дела».
Эту сущность она представляет далее в таком виде.
«Жалованья за учительский труд не полагается: учительские места замещаются псаломщиками, которыми состоят по большей части изгнанные из бурсы за громкое поведение и тихие успехи и которым, вопреки, конечно, их желанию, навязывается безвозмездный нелегкий труд, отказаться от которого они не могут. И идут они в школу, проклиная и самую эту школу, и себя, и свой бесполезный труд, и своих мучителей (а вместе и жертв) – учеников. А если случится в это время треба, то школа, как нечто неважное и второстепенное, оставляется, детишки или распускаются по домам, или от безделья ходят на голове... Некоторые церкви, впрочем, отпускают жалованье учителю, но оно редко превышает 15 рублей в год; в большинстве случаев оно ограничивается 3–5 рублями... Эти учителя большей частью и понятия не имеют о том, как учить других».
Не правда ли, какая ужасная картина варварства и жестокости! Но ведь все это доказать нужно. Извольте.
«Чтобы не быть голословным, – продолжает автор статьи, – сошлюсь на прошлогодний отчет о состоянии Церковно-приходских школ и школ грамоты в Полтавской епархии, изданный в прошлом году и разосланный при «Полтавских епархиальных ведомостях». Дальше приводятся данные из официального отчета.
Пока остановимся и обратим внимание на цитацию. Аноним почему-то так неопределенно выражается, что мы в недоумении были относительно того, какой именно отчет он разумеет; оказалось по справкам, что он цитирует отчет еще за 1895 учебный год. Итак, анонимный автор, бичуя наличное состояние школы в октябре 1897 года, в доказательство для изображения этого наличного положения дела приводит те данные, которые называет прошлогодним отчетом, еще называет сведениями к началу 1896 учебного года, а в действительности – данные за 1895 учебный год. Каков прием! Сведения трехлетние преподносятся, таким образом, читателю под видом новейших, прошлогодних. Между тем именно за это последнее время, которое аноним почему-то игнорирует, произошли такие небезразличные в отношении школьного дела явления, как ассигнование значительной субсидии школам из Государственного казначейства, как учреждение особо избранных руководителей школьного дела, как увеличение у нас числа правоспособных учителей вдвое. Одних учителей со свидетельствами на звание учителя, кроме лиц, получивших среднее образование, в Полтавской епархии в 1897 учебном году было 77 человек, тогда как в 1895 учебном году их было только 12 человек. Интересующийся школами читатель, конечно, знает, что на школы империи с прошлого года отпускается от казны миллионная субсидия, а между тем вот на долю учителя в Полтавской епархии выпадает будто бы только 3–5 рублей, и то церковных! Не говорим о фигуре умолчания в статье касательно средств на школы от крестьянских обществ, от земств, от благотворителей, которыми дается школе и материальная помощь, и выказывается обществом сочувствие. 06 этом, как и о составе и образовательной подготовке учителей, наша речь еще будет впереди. Вот как рассчитано в разбираемой газетной статье на обман разумения.
Посмотрим теперь, как газетный автор этот в обличение дела в 1897 году пользуется данными отчета за 1895 учебный год. Этим сведениям сам автор придает особенное значение как данным официального отчета. Чтобы яснее было дело, мы параллельно сопоставим слова газетной статьи и слова об этом самого отчета.
Газетная статья. Из этого «отчета» явствует (с. 28), что из общего числа учителей церковно-приходских школ (392) только 12 имеют свидетельство на звание учителя; подавляющее большинство – 298 – составляется из вышедших из средних и низших классов семинарии, духовных училищ, уездных и городских училищ, церковно-приходских школ...
Об учителях школ грамоты и говорить нечего: отчет даже не указывает статистически образовательного ценза, ограничиваясь только беглым замечанием (с. 82), что образовательный ценз учащих в школах грамоты – ниже среднего: есть немало учителей, которые закончили свое образование в народных и церковно-приходских школах, следовательно, с подготовкой к учительству далеко не достаточной.
Печатный отчет (с. 28). Учительский персонал по своему образованию разделялся так: 19 окончили полный курс духовной семинарии, 2 – учительскую семинарию, 66 учительниц, окончивших епархиальное женское училище, 12 – женскую гимназию, 6 – женскую прогимназию, 1 – частный пансион, 1 – двухклассное козельщанское училище; остальные 285 учителей – из средних и низших классов семинарии, духовных училищ, уездных и городских училищ, 10 – из церковно-приходских и земских школ и 3 с домашним образованием. Свидетельства на звание учителей имеют только 12.
С. 81–82. Между учителями (школ грамоты) 391 лицо принадлежало к церковному причту и 188 не принадлежало к нему. Между первыми были: один – протоиерей, пять – священников, 51 – диакон и 264 – псаломщика; между вторыми: 12 – сыновей священников, не окончивших среднего учебного заведения, два – окончивших духовную семинарию, один – сын диакона, два – сыновья псаломщиков, два – пономаря, два – сыновья пономарей, три – дворянина, один – почетный гражданин, семь – унтер-офицеров, 21 – нижние чины, трое – сыновья солдата, 16 – мещан, 43 – казачьего сословия, 34 – крестьянского и 40 учительниц; из них девять – окончивших епархиальное училище, две – не окончивших его, 12 – окончивших женскую гимназию, три – окончивших женскую прогимназию, пять – окончивших 3-классное монастырское женское училище, одна – домашнего образования, две – мещанского сословия, окончившие народное училище, одна – дочь крестьянина, окончившая народное училище, и четыре учительницы рукоделия.
Образовательный ценз учащих в школах грамоты, за исключением большинства священников-законоучителей и небольшого числа учителей и учительниц, ниже среднего, что видно из прилагаемого при отчете списка школ с обучающими в них. Есть немало учителей, которые закончили свое образование в народных и церковноприходских школах, следовательно, с подготовкой к учительству далеко не достаточной. Но, несмотря на это, большинство учителей, не говоря уже о законоучителях священниках, трудились с успехом и усердием и некоторые из них отмечены уездными отделениями с особенной похвалой.
Теперь читатель по приведенным извлечениям сам может судить о том, как автор разбираемой статьи пользуется официальным отчетом в доказательство приведенных им раньше суждений собственного измышления.
А между тем он же (автор газетной статьи) приведенные сведения из отчета заключает таким обобщением: «Вот из каких лиц, по официальному отчету, состоит контингент учителей в церковных школах. Уже по этому одному легко можно судить о степени успешности обучения в этих школах, а отсюда и вообще о значении церковных школ».
Что можно сказать об этом обобщении? Конечно то же, что о выборе отчета для цитации, что о самых выписках из этого отчета. Казалось бы, излишне продолжать дальнейший разбор подобной статьи, но будем иметь терпение до конца.
Статья переходит потом к характеристике школьных помещений, и здесь она в духе неправды идет еще дальше. Настоящее характеризуется данными первых годов существования школ по статье «Церковно-приходские школы и школы грамоты Полтавской епархии за последние 11 лет (1884–1895 гг.)» – после того, когда у нас на созданной постепенно почве усиленно пошло внешнее благоустроение школ именно в три последних года. В разбираемой статье, таким образом, прямо отсутствуют показания о школьных помещениях из печатного отчета за 1895/96 учебный год, причем автор ее не пожелал и дождаться сведений за действительный, прошлый 1896/97 учебный год. Вместо этого к выпискам из вышеназванной статьи о первых 11 годах существования школ (к слову сказать: эти годы по заглавию называются последними, но стоящая в подлиннике действительная цифра их – 1884–1895 в газете ни разу не названа) добавляется ссылка на отчеты епархиального наблюдателя по обозрению им школ в Золотоношском и Лубенском уездах в течение 1895/96 учебного года, напечатанные в «Полтавских епархиальных ведомостях» за 1896 год (№ 7, 8, 19–20). Из этих отчетов епархиального наблюдателя взято пять неблагоприятных случаев с полным умолчанием обо всех случаях благоприятных, и потом сделано такое многозначительное замечание: «Ab uno disce omnia» 63»! По одному разумей обо всех.
А между тем, в действительности, касательно помещений вот что значится в тех отчетах, на которые аноним ссылается. Именно, в отчете по Золотоношскому уезду описано 16 школ; из них 13 отмечено в качестве удобных помещений, достаточно снабженных классной обстановкой, и только три помещения оказалось неудобных. При этом в числе удобных помещений собственных школьных зданий оказывается девять, и из них некоторые признаны отличными (№ 19–20. С. 573–586).
В другом отчете, по Лубенскому уезду, описана 41 школа, из коих только 9 располагают помещениями неудобными, но зато имеется 28 собственных, очень хороших школьных зданий. В отчете довольно обстоятельно описаны размеры каждого классного помещения и его обстановка (№ 7–8. С. 148–200). Это данные отчета. А вот как суммирует дело автор разбираемой статьи: «Приходится констатировать печальный факт, что под церковную школу отводится обыкновенно самая ветхая, неудобная, завалящая избенка, какая только есть в селе; если таковой не окажется, для этой цели отводится церковная сторожка (sіс!); если и сторожки нет или ее никак уж нельзя приспособить под школу, помещением для школы служит кухня церковного дома или что-нибудь еще менее подходящее для школьного помещения». Таким образом, здесь пред нами полное «извращение фактов».
В этой последней реплике с ужасом говорится о церковных сторожках, в которых помещаются школы. Чтобы рассеять и этот туман, мы предлагаем описание сторожек из тех же отчетов епархиального наблюдателя, на которые газетная статья ссылается.
«Золотоношский уезд. 6) Церковно-приходская (смешанная) школа, в м. Крапивна. Помещается в церковной сторожке (3¼ х 5 х 7 аршин). Света довольно (5 окон); пол кирпичный; 4 парты (на 8 человек каждая). В переднем углу икона Спасителя, благословляющего детей, лампада. Классные принадлежности (стол, стул, доска, шкаф) имеются...» (Полтавские епархиальные ведомости. 1896. № 19–20). «11) Школа грамоты (смешанная) при Успенской церкви м. Ирклеева. Помещается в сторожке (3½ х 7 х 7), обстановка удовлетворительная».
«Лубенский уезд. 1) Церковно-приходская (смешанная) школа при Троицкой церкви г. Лубны. Помещение (в церковной сторожке) удовлетворительное; вся обстановка хорошая. Всех учащихся по списку 36, в том числе 13 девочек; налицо 28, в том числе девочек 10...» (№ 7–8. С. 148). Нужно заметить, что сторожки при церквах весьма часто строятся не только с целью поместить сторожа, но в них, кроме того, устраивается значительных размеров комната для того, чтоб было где обогреться прихожанам в зимнее время. Эти комнаты обыкновенно и обращают под школу, пока не выстроят нарочитого для школы здания.
«После удобного помещения второй неотложной потребностью каждой школы, – говорит далее газетная статья, – является достаточное количество книг и учебных принадлежностей». Как с этой стороны обеспечены церковные школы? За разъяснением этого вопроса обратимся к цитированной уже нами статье: «Церковноприходские школы и школы грамоты в Полтавской епархии за последние 11 лет». Мы опять сопоставим слова газетного автора и слова названной статьи, на которую он ссылается.
Газетный автор. «Церковные школы и в отношении обеспечения достаточным количеством книг и учебных пособий испытывали (и испытывают) недочет. Бывало (и бывает очень часто – прибавлю от себя), что в школе из 15–20 учеников оказывалось налицо 5–6 учебных книг, да и те разных авторов».
«Церковно-приходские школы и школы в Полтавской епархии за последние 11 лет (1884–1895 гг.)» (Полтавские епархиальные ведомости. 1896. № 22–23. С. 666–667): «Церковные школы Полтавской епархии и в этом отношении испытывали недочет, особенно в первые годы их существования. Бывали случаи, что в школе из 15–20 учеников оказывалось налицо 5–6 учебных книг, да и те разных авторов. Обеспечение школ учебными принадлежностями и пособиями всегда было предметом особенной заботливости епархиального училищного совета и его отделений. Но так как средства совета и отделений были слишком ограниченны, то, понятно, они и не могли дать школам столько, сколько требовалось. Только в последнее время благодаря значительной помощи книгами со стороны училищного совета при Святейшем Синоде школы перестали испытывать особую нужду в книгах».
Читатель может видеть, что и тут есть разница между сообщением газеты и мыслью статьи, которую она цитирует. При этом мы напомним, что в цитируемой статье «Епархиальных ведомостей» характеризуется положение дела за время с 1884 по 1895 год, то есть за время до нынешней помощи школам из Государственного казначейства, которая нужду в книгах устранила совершенно.
Мы сейчас ознакомились с тем, как пользуется автор разбираемой статьи отчетными сведениями для характеристики школьного дела по всей епархии. Теперь последуем за ним в его разборе двух новых мероприятий по епархии, направленных к подъему в школах учебного дела.
Сначала он указывает на распоряжение епархиального начальства касательно кандидатов псаломщицкой службы. В этом распоряжении сказано: «Монастырские послушники и ученики, уволенные из училищ и первых двух классов семинарии, желающие получить штатные псаломщицкие места, должны посещать на местах своего жительства полный учебный год церковную или народную школу (с дозволения в последнем случае подлежащего начальства) во время уроков и обучаться преподаванию... При подаче прошений о предоставлении мест каждый прилагает заверение уездного наблюдателя, что он действительно учебный год посещал школу с успехом» (Полтавские епархиальные ведомости. 1897. № 26. С. 673).
Приведя это распоряжение, газетный аноним замечает: «Значение ее (этой меры) поймет каждый, кто даст себе труд задуматься над следующими вопросами: каким рациональным педагогическим приемам можно научиться у современных учителей церковных школ (кто эти учителя – мы видели раньше)? Многому ли можно научиться за один год безмолвного присутствия даже в хорошо поставленной школе во время классных занятий, если теперь признано, что даже учительские семинарии снабжают своих питомцев не очень-то тяжелым багажом? Не найдет ли этот «ставленник» множество способов присутствовать во время классных занятий где угодно, только не в «классной» комнате...»
Аноним говорит: «Кто эти учителя – мы видели раньше», и на этом, конечно, у него основана вся критика. Но в том и дело, что современных учителей читатель не видел в разбираемой статье, так как автор ее ввел в обман читателя. Вот состав учителей церковно-приходских школ за истекший, действительно прошлый, 1897 год: 7 священников, 82 диакона, 220 псаломщиков и 206 светских лиц, в числе последних 142 учительницы. Учительский персонал из светских лиц по своему образованию распределяется так: 16 лиц окончили духовную семинарию, 96 – епархиальное женское училище, 1 – учительскую семинарию, 11 – женскую гимназию, 9 – женскую прогимназию, 3 – частный пансион; 1 из второго класса духовной семинарии, 1 из училища Придворной капеллы, 5 из духовных училищ, 5 из Лубенской учительской школы, 25 из уездных, городских и сельских училищ, 14 из церковно-приходских школ, 5 из разных классов епархиального училища и женской гимназии, 3 из монастырских трехклассных школ и 11 с домашним образованием. Из лиц, не окончивших средних учебных заведений, свидетельство на звание учителя имеет 51 человек. Мы показали образовательный ценз только нарочитых учителей – светских лиц. Что касается диаконов и псаломщиков, то многие из них окончили духовную семинарию, церковно-учительскую школу в Лубнах; также некоторые из них имеют свидетельства на звание учителя как бывшие учителями в земско-министерских училищах. В школах грамоты учителями были лица с таким образовательным цензом: 3 окончили духовную семинарию, 16 окончили епархиальное женское училище, 5 окончили женскую гимназию, 5 окончили женскую прогимназию; 2 вышли из низших классов духовной семинарии, 19 из разных классов епархиального женского училища и женской гимназии, 7 из духовных училищ, 1 из учительской семинарии, 5 из полковой школы, 35 окончили церковно-приходскую школу, 5 окончили школу грамоты, 33 из городских и уездных училищ, 99 окончили сельские народные училища, 2 из лубенской братской школы, 3 из разных классов мужской гимназии, 25 с домашним образованием, 2 из дегтяревского ремесленного училища, 2 из частного пансиона. Свидетельства на звание учителя, кроме лиц со средним образованием, имеют 26 человек. К этому, для несведущих, мы поясним, что в духовной семинарии и епархиальном женском училище дается специальная подготовка к учительству не только теоретическая, но и практическая в нарочитых образцовых школах. Относительно учителей, вышедших из духовных училищ и первых классов семинарии, мы заметим, что 4-й класс духовного училища равняется 4-му классу гимназии, а 2-й класс семинарии равняется 6-му классу гимназии. Напомним также, что выполнение программ и соблюдение всей учебной организации предполагается только в церковно-приходских школах, а не школах грамоты, которые представляют собой тип школ самый низший, вспомогательный.
Приведенная нами статистика учителей церковных школ достаточно показывает, у кого в этих школах могут и должны практически учиться преподаванию кандидаты псаломщицких мест. Пробывший в качестве практиканта учебный год старательный юноша, несомненно, усвоит основные приемы для того, чтобы мог потом заняться делом в школе грамоты, не претендующей ни на что особенное, кроме скромной грамотности. Есть и применяются к делу для усовершенствования таких учителей и другие средства, каковы краткосрочные педагогические курсы. Что сказать про намек анонима на злоупотребления: что «ставленник» (для какой цели употреблен именно этот термин, поставленный притом в кавычки?) найдет множество способов присутствовать во время классных занятий где угодно, только не в классной комнате? Кажется, только то, что эта манера – дело хорошо знакомое автору-анониму.
Переходим к рассмотрению второго мероприятия. Сущность его в том, что «каждая из воспитывавшихся на епархиальные средства девиц обязана прослужить в церковно-приходских школах Полтавской епархии 5 лет, исключая случаи болезни и выхода в замужество» (Полтавские епархиальные ведомости. 1897. № 19. С. 487). Указав на это распоряжение, анонимный автор вдался в лиризм и наговорил много жалких слов по адресу «казенных» воспитанниц, обязанных идти учительницами не в земские школы с определенным жалованьем, а в церковную школу «на проблематические 120 рублей» в год. Не станем распространяться о праве Церкви на то, чтобы питомицы ее послужили ей хотя немного. Многие из них по убеждению и по указанию обстоятельств сами идут учительницами в церковные школы: в прошлом учебном году, до объявления настоящего распоряжения, 96 девиц, окончивших епархиальное училище, состояли учительницами в церковно-приходских школах. По поводу же проблематичности 120 рублей в год скажем несколько слов о материальной стороне дела.
В истекшем, действительно прошлом, 1896/97 учебном году, по полученным до составления годового отчета сведениям, на школы Полтавской епархии, кроме субсидии из Государственного казначейства в количестве 33 тысяч рублей, поступили следующие средства: от церквей 17 582 рубля, от монастырей 4 295 рублей, от приходских попечительств и братств 3 518 рублей, от попечителей школ и благотворителей 17 726 рублей, от сельских и городских обществ 15 851 рубль, платы за обучение 10 059 рублей, от уездных земств 6 531 рубль, от губернского земства 3 000 рублей. Из этих средств давалось вознаграждение за труды учителям и учительницам; из них же давалась помощь при сооружении школьных зданий и приобретении учебных принадлежностей. За более подробными об этом сведениями отсылаем читателя к годовому отчету. Старанием епархиального Училищного совета вознаграждение труда учительниц, окончивших курс епархиального училища, возводилось до 180 рублей; менее 100 рублей получали только некоторые из учительниц, живших в домах священников – своих родителей и родственников. Были учителя и учительницы, которые несли труд бесплатно.
Что касается помещений, то в истекшем учебном году собственных, вполне удобных школьных домов было 304.
О том, как относится к школе общество, свидетельствуют его жертвы на школу: возникновение новых, специально школьных зданий, а также ассигнование средств на содержание их показано нами выше. А вот новейшие примеры. В истекшем сентябре кобелякское уездное земское собрание по предложению своего гласного профессора Шимкова на местные церковные школы ассигновало 700 рублей; прилукское уездное земское собрание в начале текущего октября добавило 300 рублей на школы для девочек; хорольское уездное земское собрание тогда же ассигновало 300 рублей; в сентябре окончено постройкой и освящено здание для церковно-приходской школы в посаде Крюкове стоимостью более 5 тысяч рублей (построено на средства частного лица) и т.д. Все это цифры слишком и слишком скромные и сами по себе, и по сравнению с нашей нуждой. Мы привели цифры средств наших школ не с тем, чтобы показать (и не автору разбираемой статьи, конечно) наше богатство, но с тем, чтобы показать, чего достигло дело, несколько лет тому назад начавшееся из ничего, чтобы показать, что наше дело школьное развивается и растет, потому что исполняет свое назначение и достигает цели. Внимание и сочувствие общества к нашим церковным школам постепенно увеличивается и увеличивалось бы, если бы не поселяли недоразумений между ним и нами те, кто компонует свои статьи о школах выше разобранным способом. Мы видели, что разобранная статья представляет собой не критическое отношение к действительности, а прямую неправду. Не будем разбирать – легкомыслие это или злонамеренность, – пред нами факт газетной лжи, снабженной полным аппаратом, чтобы произвести на читателя впечатление. И зло сделано. Нам не обидна ложь неизвестного нам человека в органе, заявившем уже свою несправедливость в отношении церковных школ (например, летом настоящего года – хлесткая передовая статья о Киевских педагогических курсах для учителей второклассных школ; опровержение ее своевременно в «Киевлянине»); нам обидно то, что честные и добрые люди под влиянием статьи подобной получают превратное представление о деле. До каких пор будет продолжаться эта недостойная травля многострадальных школ церковных, да еще в Киеве, где впервые воссиял и окреп свет нашего родного церковно-книжного учения?!
Бедные труженики церковных школ! За свой нелегкий и часто действительно даровой труд вы встречаете вместо благодарности и поддержки только издевательство. Не говорим о тех, кого также касается газетная инсинуация, но кто в своей нравственной высоте недоступен для недостойных толков.