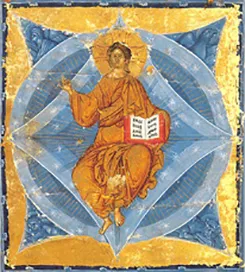Наша Забайкальская миссия и ламаизм (прочитано в праздник Благовещения, 25 марта 1899 г., в годовом собрании полтавского епархиального комитета Всероссийского православного миссионерского общества)
В нынешний день величайшего для мира благовестия нашему почтенному собранию благовестнического общества, с благословения его преосвященства, нашего глубокочтимого председателя, честь имею предложить сведения о благовестнической деятельности Забайкальской миссии. От нашего комитета в отчетный и предшествующие годы посланы значительные суммы на Забайкальскую миссию. Забайкальская миссия развивает свою деятельность в самом центре буддо-ламаизма, самого сильного противника христианства в Сибири. Забайкалье в настоящее время привлекло к себе особенное внимание и попечительные заботы правительства. Этим и объясняется то, почему Забайкальская миссия на этот раз предпочтительно представляется и вниманию нашего почтенного собрания.
Само название «Забайкалье» определяет собой местоположение страны. Находясь к востоку от Байкальского озера, оно представляет собой по пространству такую область, в которой вместилась бы из европейских государств целиком вся Австро-Венгерская монархия. Горные кряжи хребтов Даурского и Нерчинского с их отрогами, растянутые в направлении с северо-востока на юго-запад, образуют глубокие долины и пади, в которых протекают многоводные реки. Здесь одни реки несут свои воды к западу в Байкал, а другие изливаются к востоку в Амур. Склоны гор покрыты лесом, а в долинах и падях болота. В последние десятилетия пошло усиленное истребление лесов и здесь, чем производится сокращение воды в реках и открываются рукава для вторжения и сюда песков и мертвости соседней степи Гоби.
Под скалами внутри гор Забайкалья заключены громадные минеральные богатства; леса обильны зверем; открытые поляны и луга дают роскошные пастбища для скота. Зимы здесь крайне суровы и одинаково тягостны для человека и для животного. Население состоит здесь, кроме русских, из бурят и тунгусов, представителей монгольского племени. Всего населения на эту громадную область около половины миллиона, и из них целая половина инородцев. Только незначительная часть инородцев ведет оседлый образ жизни и занимается хлебопашеством, большая же часть ведет образ жизни кочевой и занимается скотоводством. В экономической жизни населения здесь столько неясного, что ради этого недавно высочайше учреждена даже нарочитая комиссия для исследования в этом крае землевладения и землепользования.
По вере буряты и тунгусы суть буддисты-ламаиты И только незначительная часть их шаманисты. В этой исполненной дикого величия стране, среди редкого некультурного населения благоустроенными пунктами являются только небольшое число городов с исключительно русским населением. Пролагаемая через область часть великого сибирского железного пути обещает быть источником коренного переворота для жизни этой интересной страны.
Таковы внешние условия и среда для деятельности Забайкальской миссии.
К Русской державе присоединено Забайкалье в половине XVII столетия. Тогда же Тобольский митрополит Павел снарядил в Забайкалье духовную миссию, которая не без успеха повела дело священной проповеди и основала там святые храмы и монастыри. В XVIII столетии, после некоторого перерыва, вероисповедническое дело посредством школы продолжил здесь Иркутский епископ святитель Иннокентий. В нынешнем столетии весьма усердным радетелем и тружеником миссионерского дела здесь был Иркутский епископ Нил (Исакович), который сам занимался переводами на бурятский язык святого Евангелия и богослужебных книг. Но более твердо миссионерское дело в Забайкалье поставлено и организовано только с 1862 года, когда открыта была вместе с Иркутской Забайкальская миссия; отделена же от Иркутской в самостоятельную епархия и миссия Забайкальская только в 1894 году. В настоящее время в Забайкалье существует уже 23 миссионерских стана, в которых действуют 20 миссионеров и три сотрудника миссии: при миссии имеется 29 школ. Более осязательные плоды деятельности миссии за истекший 1898 год выражаются в следующих цифрах: святым крещением просвещено взрослых обоего пола ламаитов 29 человек, шаманистов 47 человек, а вместе с инородческими детьми всего окрещено было 300 человек. Как слабы и даже ничтожны эти цифры сравнительно с наличными силами буддо-ламаизма!
Однако при тех немногих силах, какими располагает наша миссия, при всех наличных трудностях и препятствиях и этот успех христианской проповеди нужно признать значительным. Чтобы сколько-нибудь выяснить трудности миссионерского дела, необходимо обратить внимание на положение здесь язычества.
Два с половиной века тому назад, когда Забайкальская область присоединена была к России, коренные племена края, буряты и тунгусы, были последователями шаманской веры. Шаманизм – это младенческая религия, исполненная одних суеверий и лишенная всякого философского обоснования и подкладки. Культ шаманства совершенно прост, он состоит в умилостивлении духа зла посредством жертв из добываемой пищи да в заклинаниях. Немного требовалось усилий, чтобы победить влияние шаманских жрецов и показать народу преимущества христианства перед их верой. Не то буддо-ламаизм.
В пору присоединения Забайкалья к России ламаизм был здесь только среди нескольких родов, прибывших сюда из Монголии. Ламаизм развился из буддизма, он представляет собой весьма сложную вероисповедную систему и сложный культ. Знатоки Востока утверждают, что ламаизм стоит в таком отношении к первобытному буддизму, в каком талмудисты стоят в отношении к законам Моисея (архиепископ Вениамин). В буддо-ламаизме имеется теоретическое учение веры, кумирни с их фантастическими идолами, или бурханами 79, и пышный богослужебный обряд. Ревностными блюстителями веры буддо-ламаистской являются жрецы этой веры, или ламы, откуда и самое название вероисповедания. В среде лам установлена сложная цепь иерархических ступеней. Центрами религиозной жизни являются у буддо-ламаитов дацаны, или монастыри, но кумирни и ламы имеются в каждом самом незначительном поселении. И вот, в то время как в пору присоединения к нам Забайкалья здесь было только два старших ламы с несколькими помощниками, в настоящее время их имеется здесь свыше пятнадцати тысяч лам! – так что почти на десять инородцев приходится один лама! И все эти ламы кровным интересом своим имеют не только всяческое и полное противодействие христианству и всему христианскому, но и самое деятельное распространение ламаизма. Есть от чего прийти в ужас тому, кто неравнодушен к интересам христианства.
Откуда же эта враждебная сила настигла вверивших нам свою судьбу простодушных шаман-инородцев? Как ни больно сознаться, но эта сила создана нами: она есть плод нашей внутренней политики.
Усердное покровительство ламаизму в Сибири на счет шаманства открывается у нас с начала XVIII столетия. Из Монголии и Тибета волной потекли к нам ламы, проповедники буддийской веры. Буряты, гостеприимно давая у себя приют пришельцам, в свою очередь стали посылать молодежь в центры буддийского просвещения. Увидев, наконец, экономические неудобства от этой эксплуатации инородцев пришлыми из-за рубежа ламами, представитель власти в крае граф Рагузинский в 1728 году запретил пропускать лам в Забайкалье. Но зато, чтобы выйти из воображаемого затруднения, вот какое он указал средство: «Выбрать из каждого рода по два ламчика благоразумных и к науке охотных, хотя из сирот или кто похочет, и отдавать тайше Лупсану, дабы при нем обретающиеся ламы оных учили мунгальской грамоте и прочему, что таким принадлежит, дабы верноподданным ныне и впредь в чужих ламах не было нужды, а которые выучатся совершенно мунгальской грамоте, в которой российским подданным и иноземцам не без нужды, тех обнадеживать милостью его императорского величества в произведении чинов и в начальники». Благодаря этому распоряжению у нас появились ламы, которые далеко превзошли в познаниях своих монгольских и тибетских собратий, и в разных местах Забайкалья стали возникать дацаны, сделавшиеся очагами ламаистской пропаганды и рассадниками монголо-тибетской учености.
Обращение шаманствующих в ламаизм пошло после этого много успешнее – но всё дело шло постепенно. Указом императрицы Елизаветы Петровны, данным в 1741 году, учреждено было 150 комплектных лам, причем они приведены к присяге на верноподданство к России, освобождены от ясака (подати) и других повинностей и получили разрешение проповедовать свое учение. В 1764 году сделан еще более крупный шаг вперед в этом направлении: главный цангольский лама Зяев назначен был главой всего монголо-бурятского ламаистского Духовенства с возведением его в звание бандидо-хамбы, дающее право посвящать в низшие ламские степени. В 1809 году иркутский губернатор Трескин, предоставив вновь назначенному бандидо-хамбе Жамсуеву неограниченную власть над монголо-бурятским духовенством, предложил ему вместе с тем принять меры уже к пресечению шаманства. Так как шаманствующие продолжали упорствовать в своих первобытных верованиях, то начались гонения. По указанию старших из лам полиция хватала шаманов, сажала в ручные и ножные колодки, морила голодом, сжигала принадлежности шаманства. Бедные шаманы всюду были преследуемы: ни леса, ни горы не укрывали их от лам, целыми стадами рыскавших по всему Забайкалью и даже в окрестностях Иркутска.
Уже к половине настоящего столетия Забайкалье стало основным крепким гнездом буддо-ламаизма. 15 мая 1853 года издано положение о ламаистском духовенстве, которое действует и поныне. Этим положением установлена организация лам в виде особого духовного сословия под управлением верховного ламы бандидо-хамбы, который в своем звании утверждается высочайшей властью и подчинен непосредственно генерал-губернатору Восточной Сибири. Число штатных лам установлено в 285 человек, и все они разделены на четыре духовные степени. Все ламы распределены между 34 дацанами, причем 32 дацана находятся в пределах Забайкалья, а два – в Иркутской губернии. Названным законом 1853 года штатное ламаистское духовенство освобождено от всех повинностей, а ламы трех высших степеней, кроме того, освобождены и от телесного наказания. Позаботилось названное положение и о средствах содержания лам и дацанов. Именно, в качестве источников содержания лам и дацанов указаны добровольные приношения мирян, доходы от продажи бурханов, амулетов и других предметов культа, а также земельный надел. Постановлено наделить дацаны землей соответственно числу состоящих при них духовных лиц по следующему расчету: на бандидо-хамбу 500 десятин земли, на ширетуя (настоятель дацана) 200 десятин, на ламу (ламы гелуны и ламы гецулы – священнослужители) 50 десятин, на бандия (послушник) 30 десятин, даже на ховарака (ученик при дацане) 15 десятин. О таком земельном обеспечении, конечно, никогда не смеет и мечтать наше православное духовенство.
Закон 1853 года, точно определивший штаты лам, твердо установил их положение и материальное обеспечение, но нисколько не ограничил их, как показала действительность, ни в числе, ни в деятельности. Поэтому на деле и оказалось, как это исчислил всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1892 и 1893 годы, что число всех лам в стране равняется 10% всего инородческого населения, то есть свыше 15 тысяч человек. А по отчетам за те же годы приамурского генерал-губернатора барона Корфа, численность лам определяется даже в несколько десятков тысяч человек (в числе лам у него записаны и давшие обеты светские ревнители ламаистской веры, или так называемые убаши).
По сведениям за 1897 год, среди кочующего инородческого населения ламаиты составляют 85% с лишком; даже среди русских казаков оказались ламаиты в количестве почти 13%! В России по основным законам господствующим вероисповеданием почитается православие, а все другие религии признаются только терпимыми; здесь же выходит дело совершенно наоборот... Всё это наводит на грустные мысли, и невольно вспоминается другой факт совершенно равного достоинства в среде киргизов, где подобными средствами почти создано и укреплено.
Успехи лам не только в среде шаманствующих инородцев, но и в среде христиан-казаков – факт, который говорит сам за себя. Как держат себя, какими приемами пользуются ламы в настоящее время, об этом можно судить по следующей характеристике лам, которую дает отчет Забайкальской миссии за 1897 год. «Может быть, покажется несколько странной параллель между орденом иезуитов и забайкальским ламством, и, однако же, сходство между ними в их действиях и приемах к достижению своих целей поразительное. Как у иезуитов, так и в ламстве существует самая крепкая и стройная организация, самая строгая подчиненность; здесь такие же глаза, которые всё видят, такие же уши, которые всё слышат, которые знают всё касающееся их царства, те же руки, которые невидимо действуют, направляют и дают о себе знать. Нет необходимости говорить, что если правило «цель оправдывает средства» уживается с сердцем христианина, которое должно бы возмущаться подобными положениями, то в сердце язычника оно уже не имеет никаких препятствий. Двуличность, хитрость, скрытность, соединенные с радушием, ласковостью и предупредительностью, и при всем том постоянное сожаление о том, что не находится достаточных сил услужить или угодить вам и предугадать малейшие ваши желания, – вот что оттеняет и характеризует обычные приемы и тонкую дипломатичность наших лам. Миссионеры очень хорошо понимают, что нет у них более сильных и непримиримых врагов, как ламы, но в то же время они видят, что нигде не найдется для них таких приятных по приемам и гостеприимству домохозяев, каковы те же ламы. Однако ласку встречают миссионеры только в дацанах; в улусах же буряты, по наущению тех же лам, отказывают миссионерам не только в малейшей услуге, но и в ночном приюте в непогоду... Дневники миссионеров наполнены повествованиями об этом. Все иезуитские приемы ласки как по отношению к миссионерам, так в особенности по отношению к власть имущим и даже к простым туристам из светских лиц ламы пускают в ход с целью задобрить их в свою пользу 80, чтобы никто не мешал им царствовать над темной и крайне наивной массой простых бурят. И надо правду сказать, что в продолжение своей вековой истории они в своем стремлении достигли блистательных результатов: авторитет лам в глазах их паствы стоит на недосягаемой высоте. Что лама скажет, то для бурята – закон, воля ламы для него священна, безнравственность его и пороки стушеваны и никем не замечаются».
«Желая закрепить за собой своих приверженцев, – сообщается в том же отчете, – ламы готовы для них делать всевозможные послабления, лишь бы признавалось их жреческое достоинство. Им нет нужды ни до нравственности бурят-ламаитов, ни до их религиозного невежества, только бы это не шло к уменьшению материальных выгод самих лам и лишь бы этим не поколебался их престиж как народных руководителей. На такой индифферентизм лам к религиозному и нравственному состоянию буддо-ламаитов подчас жалуются и сами буряты, иногда они миссионерам прямо говорят, что ламы их не настаивают на выполнении бурятами правил буддо-ламаизма, не толкуют буддийских книг и оставляют в полнейшем неведении относительно даже главы буддизма Шакьямуни, так что они узнают уже кое-что из своей религии от миссионеров. Как ловкие политиканы, ламы иначе поступать и не могут. Но зато, когда им приходится сталкиваться с действиями миссии христианской, тут они не стесняются вводить в культ буддо-ламаизма такие новшества, которым бы здесь вовсе не место. Зная, например, с какой неотразимой силой действуют на душу человека высокие истины христианства, обрядовая сторона нашей Церкви, ламы в своих видах не чуждаются и отсюда делать заимствования. И вот у них появились свои – Матерь Божия, святитель Николай, Георгий Победоносец, ходы с бурханами по улусам вроде наших крестных ходов и тому подобное.
В 1897 году ввиду ожидаемого наплыва русских при проведении железной дороги и возможного при этом подрыва ламаизма для усиления религиозного духа в бурятской массе ламы нашли необходимыми чрезвычайные средства. Хоринские ламы заказали в Монголии медный идол Майдари необыкновенно громадной величины: большой палец ручной кисти этого идола по объему равняется туловищу человека средней величины, высота идола 5 сажен и 2 аршина, весу около 500 пудов. Этот идол стоил им много денег, хлопот и забот. Так как эту громаду невозможно было поместить в общем капище, то для нее устроена была огромная отдельная сумэ (часовня)».
О том, какое впечатление способно производить ламаистское богослужение, можно судить по отзывам миссионеров и туристов. Ламаистское идолослужение при полумраке храмов с их громадными и фантастическими бурханами, при обильном курении наркотическими веществами, при барабанном бое и трубном звуке – идолослужение это, по сообщениям миссионеров, производит подавляющее впечатление, вызывает страхи нервное расслабление, подавляет ум и уничтожает личность. Один из образованных туристов так рассказывает о своем посещении гусино-озерского дацана, местопребывания забайкальского бандидо-хамбы: «Ни одно место не производило на меня впечатления такого приюта мира, покоя и молитвы, как этот дацан... Богослужение в торжественной обстановке оставляет глубокое, незабвенное впечатление. Некоторые моменты такого ламского богослужения могут напомнить сходные черты архиерейского служения... Не доверяя собственной впечатлительности и желая проверить себя, я завез с собой в гусино-озерский дацан одного инженера. Приехали мы с ним в дацан часов в 10–11 вечера под первый день Пасхи, и вот вместо Христос воскресе в эту пасхальную ночь пришлось слышать совсем другие, незнакомые, непонятные звуки и слова, поразительные при окружавшей нас тогда обстановке и мраке кругом... Когда служба кончилась и я обратился к инженеру, то увидал, что он совсем расстроен; я долго не мог никак разговорить его: такое огромное и подавляющее впечатление произвело на него буддийское богослужение в дацане». Само собой понятно, что добрый христианин и сын Церкви посетил бы буддийский дацан во всяком случае не в святую пасхальную ночь и изложил бы свои впечатления в иных выражениях. Однако это сообщение с ясностью показывает и то, какое сильное впечатление ламаистский культ производить должен на полудиких бурят и тунгусов.
Это силы и средства противника. Какой же оплот имеет у себя за спиной православный миссионер? Внешние условия и средства деятелей Православной Церкви в Забайкалье можно видеть из следующего красноречивого сопоставления, сделанного в «Правительственном вестнике» статс-секретарем Куломзиным. «Если проехать не по захолустьям, но по Большому Сибирскому тракту, то везде можно увидеть роскошные бурятские дацаны, блещущие золотом, серебром и яркими красками, и рядом с ними деревянные, почерневшие от времени православные храмы. Вот, например, церковь, находящаяся на тракте в Верхнеудинском округе, в селе Попереченском: в ней нет даже приличной церковной утвари, а рядом в четырех верстах расстояния красуется попереченский дацан. В Чите, областном городе, местопребывании Забайкальского архиерея, стоит на краю города деревянный собор, по внешнему своему виду и внутреннему убранству уступающий громадному большинству сельских церквей Центральной России. Правда, место для нового каменного собора в центре города, рядом с архиерейским домом, уже выбрано, но собранных средств для постройки не хватает, и только водруженный на площади деревянный крест указывает на благочестивое намерение Забайкальского преосвященного и его небогатой паствы... В Читинском округе, в агинской Степной думе стоит ветхая деревянная миссионерская церковь и тут же находится агинский дацан. Внешний вид этого ламаистского монастыря стоимостью до полумиллиона рублей, богатство главного капища с его мраморными крыльцами, полами, цоколями, причудливыми украшениями, восточная роскошь внутреннего убранства, богатые шелковые материи, ковры, бесчисленное множество дорогих идолов бурханов, торжественность служения, совершаемого 15 штатными ламами, не считая нештатных, – всё это не допускает сравнения с собой. 19 мая 1896 года в Аге в присутствии Забайкальского архиерея, властей и множества крещеных и некрещеных инородцев была совершена торжественная закладка нового каменного храма в благодарственное воспоминание священного коронования их императорских величеств. В это же приблизительно время в воспоминание того же события начата пристройка к дацану. «В июле следующего 1897 года при проезде моем, – говорит почтенный господин Куломзин, – через агинскую Степную думу пристройка эта была вполне закончена, а православный храм... тот, к великому соблазну еще нетвердой в вере новокрещеной паствы агинского миссионерского стана, стоит еле начатым: заложенный фундамент прикрыт досками, дальнейшие работы за недостатком средств приостановлены, и неизвестно, когда можно будет возобновить их. Объехав значительную часть области, побывав как в православных и единоверческих церквах, так и в языческих бурятских дацанах, перевидав сотни и тысячи православных людей, раскольников, ламаитов и шаманистов, я вынес убеждение – и это убеждение, я твердо верю, разделит со мною всякий истинно русский человек, – что настоящее положение христианской проповеди и церковного дела в Забайкалье должно остановить на себе внимание всех тех, кому дороги и близки интересы и нужды православной веры... Здешняя нужда неотложная – это скудость сил и средств миссии, недостаток и необеспеченность миссионеров, незначительность числа и бедность церквей и школ».
Таковы условия, при которых выступает на свое делание наша бедная Забайкальская миссия! Против коварного, хитрого, богатого, укрепленного временем, строго организованного многотысячного сонма служителей Будды выступает два десятка в собственном смысле слова бедных служителей Христа миссионеров. На все потребности миссии с ее 29 школами тратится у нас всего 26 с половиной тысяч рублей, причем за спиной у миссионеров – незначительное число убогих деревянных церквей с таким же бедным клиром... Воистину миссия наша на Забайкалье выступает на труд во славу Господа Христа только с медью в поясе и со святым Крестом в руках! Только сопоставив эти наличные силы, можно понять те горькие вопли, ту скорбь сердца по поводу не столько трудностей и трудов, сколько вследствие бесплодности этих трудов, какими наполнены дневники миссионеров. Видно, муки и боли должны предшествовать рождению на свет не только в мире телесном, но и в мире духовном... И эти муки у пастырей-благовестников Забайкалья обнаруживают пока только слабое начало рождений... Пастырям-благовестникам не столько приходится здесь делать новые приобретения для Церкви, сколько оберегать от хищников существующее малое стадо.
«Всегда ли будет таково положение Забайкальской миссии? Ужели волна преобразований, нововведений и разного рода деятелей, надвигающаяся на Сибирь, не коснется и не расширит просветительное и великое дело миссии? – так вопрошает миссионерский отчет за истекший год, и затем от себя он дает такой ответ: – Нет, мы не лишены, и, полагаем, не без достаточного основания, радостных и многообещающих надежд. Церковные историки, рассматривая благоприятные условия для первоначального распространения христианства, указывают, между прочим, на то, что тогда всемирная Римская империя была прорезана удобными путями сообщения, которые, по известному выражению, все вели в Рим как в главный центр. И к нам в Забайкалье идет дорога, притом такая, пред которой бледнеет и становится жалким исторический Аппиев путь. Великая Сибирская железная дорога несет к нам культуру в обширном смысле этого слова и как бы органически связывает нас со всем культурным миром; эта дорога, надеемся, увеличит в численности самый состав благовестников Христова учения в Забайкалье, возбудит больший интерес и сочувствие к миссии в православном обществе, которому тогда представится полная возможность лично видеть дело миссии, а с тем вместе может дать и большие материальные средства к содержанию миссии».
К этому мы смеем присоединить, что авторитетное признание и открытое заявление касательно истинного положения дела на Забайкалье, сделанное в трудах высочайше учрежденной для исследования Забайкалья комиссии, а также на страницах «Правительственного вестника», заботами высокопочтенного председателя комиссии господина управляющего делами комитета министров, проснувшийся в литературе и обществе интерес к Забайкалью, внимание, наконец, высокопочтенного собрания нашего местного общества, выразителями которого являетесь вы, милостивейшие государыни и милостивейшие государи, – всё это прямо подтверждает основательность надежд деятелей Забайкальской миссии. Им действовать, а нам содействовать – Да поможет Господь!