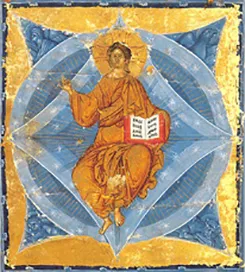Вкушение пасхального агнца; первое указание на предателя
Лк. 22:15–18; Матф. 26:21–27; Мк. 14:18–21; Ин. 13:17–22
Спаситель, окончив наставление об умовении ног, открывает пасхальную вечерю обнаружением чувств Своих о сей вечере. И во время пасхального вечеряния говорит ученикам, что один из них предаст Его.
И рече к ним: желанием возжелех сию пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук (Лк. 22:15).
Почему так пламенно желал теперь Спаситель разделить пасхальную вечерю с учениками своими? Так как этою вечерею оканчивался ветхий порядок дел, и за нею должно следовать осуществление того, что преобразовала Пасха, то пламенное желание последней вечери было плодом любви Его к падшему человечеству и преданности воле Отца небесного, возложившей на Него дело искупления. Не на радости спешил Он, а на скорби, не на утешения, а на муки неизобразимые; но божественная любовь Его к людям и Отцу небесному превозмогала в Нем над скорбями человечества, и Он спешил окончить великое дело Свое. Он желал еще и потому последней пасхальной вечери, что положил запечатлеть ее знаком особенной любви Своей к людям, установить тайну евхаристии. Желанием возжелех, – прежде даже не прииму мук, прежде моего страдания; отселе не имам ясти от нея (Лк.22:16); слова эти сами собой показывают, что их говорит любящий отец, расстающийся с детьми: Возжелех ясти с вами пасху, говорит Он детям, давая видеть, что хочет оставить им памятник любви своей.
Глаголю вам, яко отселе не имам ясти от нея, дóндеже скончаются в царствии Божии (Лк.22:16).
В другой раз Он уже не может вкушать пасхального агнца с любимыми учениками Своими, как бывало прежде, и как совершает теперь, так близка смерть Его. Он будет с ними праздновать Пасху, но уже в царствии Божием, дондеже скончаются в царствии Божии, не прежде, как придет в исполнение предзнаменование Пасхи, пока не откроется Пасха истинная, вечная. Иудейская пасха праздновалась в воспоминание об избиении египетских первенцев и о спасении Израиля (Исх. 11–12). Так как окончательное осуждение одних и спасение других наступит при последнем всемирном суде, где все нечестивые, как те египтяне, будут отвергнуты, и все праведные, как истинные израильтяне, будут ущедрены благословениями вечными, то истинная Пасха будет праздноваться в Царствии небесном; блаженство вечное святых Божиих – вот та истинная Пасха, на которую Спаситель указал ученикам Своим.
И приим чашу, хвалу воздав, рече: приимите сию, и разделите себе. Глаголю бо вам, яко не имам пити от плода лознаго, дóндеже царствие Божие приидет (Лк.22:17–18).
На пасхальном торжестве за вкушением агнца подавалась чаша вина в знак любви и радости. Это самое исполняет и Спаситель, в исполнение обрядового закона; только присовокупляет Он мысль новую, с какою подает чашу. Не имам пити от плода лознаго, дóндеже царствие Божие приидет, или, как св. Матфей изъясняет, не имам пити – до дне, егда пию с вами ново во царствии Божии (Мф.26:29). Хотя воскресший Спаситель, по воскресении Своем, разделял с учениками трапезу, но не вино пасхальнoго празднества; и ученики Его тогда еще не были в блаженном покое царствия Божия, и вино новое не принадлежит ко времени, какое провел Спаситель по воскресении, деньми четыредесятьми являясь ученикам. Спаситель опять указывает на ту же отдаленную будущность, на которую указывал, когда говорил о праздновании истинной Пасхи (Лк.22:16). Он указывает на то царство, которое откроется после суда Его над вселенною (1Кор. 15:54–55).
Евангелисты Матфей (Мф. 26:29) и Марк (Мк. 14:25) приводят слова Спасителя о чаше после того, как сказали об установлении тайны евхаристии. Но обычное употребление пасхальной чаши показывает, что слова о ней сказаны тогда, как приводит их св. Лука. Он ясно говорит о двоякой вечере Христовой – о вечере ветхозаветной и о вечере евхаристии (Лк.22:19–20), тогда как нет того в кратком повествовании других Евангелистов. Спаситель сказал в начале пасхальной вечери: желанием возжелех ясти с вами пасху. Но в описании Евангелистов Он является едва участвующим кое в чем из ветхой пасхи. И возлежащим им и ядущим, говорит св. Марк (Мк. 14:18), и ядущим им, говорит св. Матфей (Мф. 26:21): вот и описание торжества пасхального. Не сказано даже о том, что, по предписанию закона, стоя вкушали пасхальный агнец (Исх. 12:11). Тем более не говорится, какие и в каком виде исполнялись другие обряды праздника. Только случайно указывается на совершение двух обрядов ветхой пасхи (Лк. 22:16–18; Мф. 26:23). Господь субботы (Мф. 12:8) и всех обрядов теперь особенно давал видеть, что ветхий порядок дел оканчивается и заменяется новым. И Евангелисты, внимательные к словам и действиям Господа, в подробном своем описании пасхальной вечери представляют нам только слова и деяния Установителя нового закона.
Аще сия весте: блажени есте, аще творите я. Не о всех вас глаголю. Аз бо вем, ихже избрах, но да писание сбудется: ядый со Мною хлеб, воздвиже на Мя пяту свою (Ин. 13:17–18).
Слова сии, в евангелии св. Иоанна, предшествуют предсказанию Спасителя о том, что один из учеников предаст Его (Ин.13:21); по повествованию св. Луки, это было сказано Спасителем после вечери пасхальной (Лк.22:21–22), а по повествованию св. Матфея (Мф.26:21–27) и Марка (Мк.14:18–22) – прежде установления евхаристии.
Спаситель обещает блаженство разумевающим тайны Его и оправдывающим разумение свое делами. Если, говорит, вы знаете, с какими мыслями, с какими расположениями совершается Мною последняя пасхальная вечеря, где Я, Господь ваш, умываю ноги слуг Своих, вы счастливы, вы блаженны, когда будете выполнять известное вам. Но Он вполне знает учеников Своих и говорит, что не все они имеют то деятельное разумение, которое делает блаженными людей. Ему известны избранные Им, известен и тот, который исключил себя из блаженного царства, жертвуя совестию страстям своим. Последнее не могло не быть прискорбным Господу. Но уже давно сказано: ядый хлебы Моя воздвиже на Мя пяту (Пс. 40:10). Печальное дело неблагодарного коварства давно было предсказано; это предсказание не налагало на свободную волю необходимости выполнять его; напротив, оно предостерегало ее от греха. Попечительная Благость сделала только свое дело, указав на опасность. Если воля поступает по-своему, это ее дело. Слова Писания, приводимые Спасителем (Пс.40:10), Давид сказал о коварном Ахитофеле (2Цар. 9:6, 15:31); но судьба Давида была образом судьбы Мессии Иисуса, и большая часть псалма Давидова буквально относится к Мессии. Иуда должен был остерегаться по крайней мере того, чтобы не быть другим Ахитофелом, если уже он не верил, что Иисус есть Мессия.
Отселе глаголю вам, прежде даже не будет, да егда будет, веру имете, яко Аз есмь (Ин.13:19–20).
Указывая наперед в разделявшем с Ним трапезу будущего врага Своего, Спаситель показывает тем, что избрание друга-врага не случилось по какой-либо ошибке. Исполнение предсказания Его о поступке друга-врага должно было только утвердить веру в Его божественное посольство, которому так мало верят иудеи – представители чад мира.
Сия рек Иисус, возмутися духом, и свидетельствова, и рече: аминь, аминь глаголю вам, яко един от вас предаст Мя (Ин.13:21).
Если предательство Иуды и для человеческой чистой души представляется поступком возмутительным, чем же было оно для Богочеловека? Чем чище, чем святее душа, тем отвратительнее для нее грех. «Возмущение Иисуса есть движение против нечестия предателева», говорит св. Кирилл. С другой стороны, любящий небесный Учитель мог ли не скорбеть и о погибели одного из избранных учеников Своих? Горькая будущность! Но предсказание о ней нужно для верующих (Ин.13:19).
И скорбяще зело, начаша глаголати Ему един кийждо их: еда аз Господи? (Мф. 26:22)
Такое действие на учеников произвели первые ясные слова Спасителя о предателе: так свидетельствуют Евангелисты Матфей (Мф.26:21–22) и Марк (Мк.14:18–19)!
Страшно преступление, которое, по словам Господа, готов совершить один из учеников Его. Но искренние ученики Христовы, с одной стороны, уверены, что слово Учителя и Господа их верно, – Ему известны и сердца человеческие, – с другой стороны, они уже довольно обучены смиренному сознанию изменчивости человеческой. Потому каждый испугался за самого себя, не в нем ли Господь видит готовность на дело черное? Каждый, не доверяя себе, боялся за себя, и с скорбию спрашивал о себе: не он ли столько худ, что решится даже предать Господа своего? «Я боялся всех дел моих», говорил праведный Иов (Иов. 9:28; Притч. 28:14). И подлинно худо, очень худо, положение тех из нас, которые говорят в душе своей: мы не можем быть такими, как этот сын греха – Иуда, мы никогда не позволили бы себе ничего подобного. Верное, искреннее, святое самоиспытание побуждает каждого говорить: «не бываю ли и я иногда неверен Господу, хотя и пользуюсь всеми дарами любви Его? Не продаю ли и я любовь Его за удовольствия плоти, за звук славы мирской, за вес монеты»? Себе искушайте, аще есте в вере, себе искушайте, учит апостол (2Кор. 13:5). Унижение ли для грешника – подозревать себя в грехе? О нет, это дело правды для него. Напротив, он впал бы в пагубное самообольщение, если бы считал себя правым во всем.
Он же отвещав, рече: омочивый со Мною в солило руку, той Мя предаст (Мф.26:23).
"Обмакнувший со Мною в блюдо руку«, или, как яснее говорится у св. Марка, »один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо« (Мк. 14:20) означает то же, что прежде сказанное: ядущий со Мною (Мк. 14:18), только в приложение к частному случаю. На пасхальной вечере между прочим вкушали горкие травы, обмакивая их в уксус. На участие в сем-тo обряде вечери указывает Спаситель, говоря о предателе. Таким образом, здесь опять не указывается на самое лицо предателя, а только подтверждается, что предатель разделяет с Господом вечерю любви. Небесный Учитель не открывает пред другими лице грешника; Он только снова говорит, что грешник Ему известен. Он добротою Своею препирается с злостию грешника, и добротою хочет победить ее. «Он показывает, что совесть предателя Ему известна, но не смущает нечестивца ни жестким, ни открытым порицанием, а убеждает его кротким и молчаливым увещанием».
Сын убо человеческий идет, якоже есть писано о Нем. Горе же человеку тому, им же Сын человеческий предается: добро бы было ему, аще не бы родился человек той (Мф. 26:24).
Чтобы утешить искренних Своих относительно Своей участи, а в предателе пробудить какую-либо заботливость о себе самом, Спаситель говорит о значении Своей участи и об участи предателя. Он, Божий Посланник, стоит выше злой воли предателя и зависит собственно от воли Отца небесного и своей воли. Сын человеческий идет, – значит «смерть Его более переход, чем смерть, как и сказал Он иудеям: гряду к Пославшему Мя, и за Ним остается полная свобода». Идет, якоже есть писано о Нем, согласно с волею Отца небесного, давно возвещенною Пророками (Лк. 22:22), например, Давидом (Пс. 21), Исаиею (Ис. 53). Горе же человеку тому, им же сын человеческий предается. Воля Божия, которой следует Посланник, нимало не извиняет гнусности предательства, как зависящаго от произвола предателя. Злоупотребление свободой не перестает быть грехом оттого, что оно было предусмотрено Всевидящим. Если оно благим промыслом обращается в орудие, для достижения цели спасительной, как и предательство Иуды, то хвала и слава за то благости Божией; дело же злой воли остается тем, чем оно есть. Горе человеку тому. Если он видел в Иисусе человека и предавал как человека, это только увеличивает вину его. Он имел способы видеть в нем Богочеловека. Что говорил в слух его сын Божий против Иудеев (Ин. 15:22–25), относилось к нему – Апостолу – в высшей степени. Он боролся с небесною истиною. Любовь подвизалась, чтобы победить злость его, а он только усиливался в злости. Он пренебрег сыном Божиим (Евр. 6:6) для денег.
Добро бы было ему, аще не бы родился человек той. Не сказано просто: лучше было бы, т.е. и пред Богом, или лучше было бы, если бы не был он создан. Смелой пытливости не дано повода нападать на творение человека, лучшего из видимых дел Божиих. Не сказано также: лучше было бы, если бы был он уничтожен. Уничтожение духовного существа, хотя и может быть желаемо злою волею, не может быть допущено правдою вечною. Добро было бы ему, говорить Господь. Он, этот несчастный человек, будет чувствовать – и чувствовать вечно – что хорошо было бы ему не родиться. Состояние его подобно состоянию тех, которые будут взывать к горам: упадите на нас и сокройте от гнева Агнца (Апок. 6:16, Лк. 23:29‑30). Страшное состояние предателя открывает любовь заботливая о нем; но она ничего более не может сделать для него, предавшего себя на отмщение правды вечной.
Отвещав же Иуда, предаяй Его, рече: еда аз есмь, Равви! Глагола ему: ты рекл еси (Мф. 26:25).
Тогда как другие ученики говорили: еда аз, Господи? Иуда говорит: еда аз, Равви? Первое, как очевидно, есть плод благоговения; второе – совсем не то: Равви – почтительное название Христу Иисусу, название, которое учтивость давала и всякому другому учителю. Итак, Иуда говорит только языком приличия. Далее, тогда как другие ученики со страхом спрашивали о себе Господа, Иуда молчал; он молчал и тогда, как Господь подтвердил, что предатель разделяет с Ним трапезу любви. Когда же Господь возвестил страшное горе предателю, то эта угроза, как видно, потрясла и его сердце, но не столько, чтобы открылось в нем искреннее раскаяние. Скоро успокоясь от смущения, для того только, чтобы молчанием своим не возбудить в других против себя подозрения в предательстве и тем не навлечь себе неприятностей, он, по примеру других, спрашивает: не аз ли? Иуда действовал пред учениками, как оборотливый лицедей. А чем он был пред своею совестию? О как тяжело было Сердцеведцу слышать вопрос бесстыдный! Как можно было без негодования отвечать такой страшной душе? Небесная благость Твоя, Господи, отвечает кротко Иуде: ты рекл еси, т.е. ты знаешь сам. Так «Господь начертывает нам образ и правила терпения обид».
Слава долготерпению Твоему, Господи!