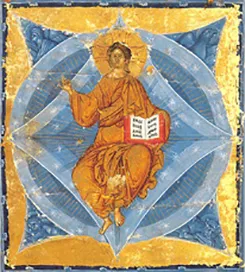Проповедь по Евангелию о женах-мироносицах у пустого Гроба, 2002 г.
Сегодня мы читали воскресное Евангелие от евангелиста Луки, где повествуется о том, как ангел сказал пришедшим жёнам-мироносицам: Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его (Лк. 24, 6-8). Когда они возвратились и сообщили об этом апостолам, апостолы не поверили этим словам, хотя Господь и самим апостолам ещё большее количество раз говорил о том, что надлежит Ему преданным быть в человеческие руки, быть распятым и в третий день воскреснуть. Почему они этому не поверили? По той же самой причине, по которой жёны-мироносицы забыли об этих словах. Действительно, всё, что для человека трудно приемлемо, человеку трудно запомнить. Например, какое-нибудь трудновыговариваемое слово или, бывает, ждёт человека некая неприятная обязанность, он может об этом забыть. Настолько тяжело об этом думать, что сознание от этого отключается.
Конечно, был такой эпизод в Евангелии, где описывается, что апостолы воспротивились тому, что Господь говорил, что Ему надлежит пострадать. Пётр стал уговаривать, говорит: Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!. Господь сказал ему: Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16, 22-23). Воля Божия направлена на спасение, а человек грешный то, что касается его спасения, плохо воспринимает. Человек больше является существом таким плотским, он обращён на жизнь материальную. Если посмотреть на скорби людские, от чего человек приходит в скорбь? От того, что существует угроза его здоровью, жизни или какие-то душевные переживания. Например, самое обыденное, часто встречающееся и всем нам понятное – болен человек, страшно страдает. Его лечат, продлевают ему жизнь.
Я не так давно столкнулся, такой эпизод меня вообще поразил. Одной женщине нестарой нужно было ехать в очень важную для неё заграничную командировку, какой-то очень важный для неё доклад делать. А у неё умирала какая-то родственница, не то мать, не то бабушка. У неё подруга врач. Она говорит: “Ну как я её оставлю?” Подруга говорит: “Господи, какие проблемы, уезжай спокойно. Я тебе гарантирую, что три недели я её продержу”. Всё, она уехала, всё сделала, приехала спокойно, а потом кончилась эта усиленная терапия, и человек спокойно отошёл ко Господу. То есть медицина вообще чудеса делает. Это можно довольно долго таким образом продлевать жизнь человека. Вот, наконец, страдания кончились, человек умер. Остальные, вместо того чтобы радоваться, они плачут. О чём? О том, что у человека ничего не болит теперь? Они плачут, потому что они расстались с ним, они плачут о себе. Человек всё время ориентируется на это. Он скорбит о том, что теперь у них не будет общения, теперь и тело надо на второй-третий-четвёртый день закопать. На могилу, конечно, сходим, но всё-таки у постели уже не посидишь и прочее. Всё равно человек плачет от того, что лишается сам, хотя говорит: “Ой, как мне его жалко”. Что жалко? Надо было раньше. Или ещё смешней, когда ко гробу приезжают люди, которые пятнадцать лет его не видели, и плачут. Чего ты плачешь? Приехал бы неделю назад, поговорили бы, чай вместе попили. Чего ты так расстраиваешься? Пятнадцать лет не видел, ещё пятнадцать лет не увидишь. А через двенадцать и самому помирать. О чём он плачет? Плачет о себе, об утрате этой возможности. Самому себе признаться в этом трудно, поэтому получается, что вроде плачет об усопшем, а на самом деле над усопшим, но всё-таки о себе. Поэтому Господь однажды и сказал, обращаясь к народу: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших (Лк. 23, 28). Собственно, так оно и было, потому что они Его любили, они Его жалели и плакали о том, что они больше Его не увидят, а не потому что им Его было жалко. Всё равно о себе, человек так грехом сориентирован.
А Господь хочет, чтобы мы усвоили истину, поэтому Он хочет нас всё время перенаправить, чтобы мы шли путём покаяния, исправления, изменения хода свих мыслей, чувств и так далее. Это очень болезненно, поэтому эту болезненность наша душа отторгает. Господь говорит о том, что Ему должно быть схвачену и распяту, в третий день воскреснуть, но их душа напрочь отвергает эти слова. Несмотря на то, что Церковь весь свой обиход украшает крестами.
Время от времени какая-то мамаша приходит с квадратными глазами: “Что теперь делать, сын причастился, а я забыла ему надеть крестик. Он из лифта вышел или из душа, или на рентген ходили, что теперь делать?” Некоторые священники из этого целую пирамиду городят, что он без креста причастился. Апостол Иоанн Богослов на Тайной вечере с крестом причащался? Апостол Павел всю жизнь креста не носил и ничего, хороший был апостол, умер, как христианин. Замечательно, дай Бог каждому быть таким, как апостол Павел. Надо крест носить, ну хорошо, замечательно, слава Тебе, Господи. Но дело не в том, чтобы носить, а дело в том, чтобы крестное сознание вошло в ум и сердце. Вот для чего носят, а не для того чтобы просто что-то болталось на шее, мешало, создавало какие-то неудобства, потому что есть некий ритуал, который во что бы то ни стало надо исполнять. Умру, но глаза накрашу. Не в этом же дело. Надо видеть за всем прежде всего духовный смысл. Конечно, мы люди, у нас духовного без телесного не бывает. Мы живём в теле, душа наша бессмертная, духовная, но она в теле нашем пребывает. Когда душа от тела отделяется, мы это смертью называем. Поэтому мы очень уважаем и ценим эти материальные знаки, но ценим-то не скрещение двух прямых линий, а ценим тот подвиг, который Бог, вочеловечившись, совершил ради нашего спасения. Речь о спасении, о добровольном принятии креста, о том, чтобы мы брали на себя свой крест и с этим крестом шли не куда попало, а за Ним, как Он нам заповедовал. Вот в этом смысл. Крест на себе нужно носить, чтобы это было постоянным напоминанием. Как Шарль де Костер написал: “Пепел Клааса стучит в моё сердце”, так и крест должен всё время по груди стучать и напоминать, что ты христианин, ты должен жить так-то и так-то.
Вспомни, что в Евангелии сказано: жена да боится своего мужа (Еф. 5, 33). Или для тебя это вообще не важно, ты такая либералка и феминистка? Сейчас другая эпоха, никто не спорит, речь идёт не о том, чтобы в ужасе хвост поджимать, совершенно о других категориях. Давай просто рассудим и вдумаемся, что за этим должно стоять. Ну по крайней мере не вставать в позу учителя: “Ты должен это, ты должен то”. За всем должен стоять духовный смысл, тогда и жизнь будет осмысленна, и христианство будет осмысленно, а не будет цепью исполнения каких-то выхолощенных ритуалов. Можно всё внешне соблюсти, но, если за этим ничего не стоит, то это не христианство. Христианство – это есть только очищение внутренних скляниц нашей души (см. Мф. 23, 26).
А то вроде христианин, а состояние такое – то в обиде, то в отчаянии, то в обиде, то в отчаянии. Если ты в обиде, то крест снимай. Христианин не бывает в состоянии обиды. Если ты обиделся на какого-нибудь, значит ты отрёкся от Христа, извини. Тогда то, что ты носишь на себе крест – это вообще лицемерие, если ты находишься в состоянии обиды. Как христианин может быть в состоянии обиды? Или христианин находится в унынии. Уныние бывает, оно всегда следует за подвижником, но если человек борется, это одно дело, а другое, когда человек распластался в унынии и считает, что все вокруг должны ему сострадать и кланяться его страданию. И что, это христианство? Да нет, ничего подобного. Зачем тогда все эти ризы? Тогда это всё лицемерие. А лицемерие – это как раз то единственное, что Господь обличал. Говорил: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры (Мф. 23, 13). Тогда зачем это всё нужно? Вот и получается, что очень быстренько христианская жизнь превращается в противоположное. Чего тогда иконы целовать, чего тогда в храм ходить, чего тогда кресты целовать? Целуешь крест, так ты посмотри, что ты целуешь, кто на нём.
Как отец Аркадий рассказывал, когда служил в деревне, спрашивает: “Бабушка, ну ты скажи, кто на кресте?” – “Ой, да я, батюшка, не вижу, очки не взяла”. Даже не знает, кто на кресте и зачем на кресте. Почему прибили, почему кровь течёт. Какой вообще в этом смысл? Для чего это лобызание? Что это за знак? “Ой, батюшка, а можно я к кресту приложусь до или после, или во время, или когда уже все уйдут?” Да приложись, Господи, да зацелуй всё на свете. Давай восемнадцать крестов положим. Приложился или не приложился, что изменилось? Ничего, потому что дело не в том, что человек что-то лобзает или не лобзает, а в том, что что-то меняется. Это может только быть выражением чего-то, что есть внутри, потому что поцелуй – это всегда некий знак любви и приветствия. Вообще по-славянски “целование” в переводе на русский значит “приветствие”. Не важно, поцелуй в щёку или в губы, в руку, в шею – это приветствие. Апостол Павел пишет в послании: Целуйте братию всю лобзанием святым (1 Сол. 5, 26). Имеется в виду приветствие. Они приветствовали, конечно, не поцелуями, а говорили “радуйся”, таким словом древние римляне приветствовали друг друга. По-гречески “хайре”, как мы поём в акафисте. Радуйся — это есть древнее приветствие, которое было во всей Римской империи, по-гречески “хайре”, по-латыни я не помню. Это всё в акафистах наше “радуйся” – это просто древнее приветствие, которым приветствовали друг друга люди на улице. Радуйся не потому, что она должна радоваться, плясать, улыбаться и песни петь, это просто приветствие, пожелание другому радоваться. Как у нас, у русских, принято желать здоровья, “здравствуйте”. Будь здоров, мол. А когда расстаются, говорят “прощай”, то есть, если что-то между нами возникло, ты меня прости. Сначала пожелание здоровья, а потом просьба о прощении. За этим стоит смысл, не просто “здрасьте”, как некое междометие, а действительно пожелание здоровья. Если это произносится бессмысленно, то и смысл теряется.
Ангелы объясняют, как посланники Божьи, этим жёнам-мироносицам, что нет, Он воскрес, это случилось. Они вспомнили, да и не поверить ангелам уже было невозможно, тем более было свидетельство – тела нет, пелены лежат. А апостолы, которые услышали на слух, им уже не верят. Так и получается, и наша вера такая – если мы пришли в храм, слышим Евангелие, вера в нас как-то оживает, вроде наше сердце воспламеняется. А чуть мы уходим в нашу обычную жизнь, вроде это остаётся как-то за рамками. Пока мы здесь, в храме, пока мы слышим Евангелие, у нас вроде одно отношение к Богу, а когда мы вышли за пределы храма, там уже и это можно, и то можно, и так и до самого кошмара можно дойти потихоньку. Вроде никакого Бога и нет. Получается, что здесь мы как бы веруем, а там не веруем. Здесь, в храме, можно только то, что свято, а за пределами храма можно вообще всё что угодно. И в чувствах, и в мыслях, и в словах, и в поступках. Так не должно быть, это должно быть едино, потому что душа у нас одна, Бог у нас один, всё наше устроение едино. Надо эту всю разорванность постараться объединять. Объединить это может только благодать Божия, которую мы тоже можем только в Церкви и стяжать. Помоги нам в этом, Господи!
https://www.dimitrysmirnov.ru/blog/propoved-110242/