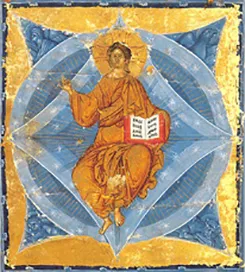Проповедь на воспоминание Адамова изгнания, 2002 г.
Сегодня Церковь вспоминает изгнание Адама из рая. Во всей полноте нам трудно это понять, оценить и почувствовать то состояние, потому что каждый из нас вкушал райской жизни, но это вкушение, общение с Небесным всё-таки было у нас, во-первых, неполное, во-вторых, фрагментарное, а в-третьих, в силу того, что Царство Божие не приходит к человеку приметным образом, это изменение и накопление духовного бисера происходит в нас очень медленно. Когда мы хотя бы что-то теряем, это не происходит для нас очень заметно. Немножко по совести скребёт, мы испытываем какой-то душевный дискомфорт, но в общем это довольно привычно. А когда совершаем что-то действительно тяжкое, когда остаёмся действительно ни с чем, то это уже больше напоминает то страшное отчаяние и пустоту, которые испытал Адам. Этот опыт пережить не дай Бог каждому. Иногда Господь попускал и даже подвижникам настоящей веры и благочестия почувствовать эту богооставленность. Мы даже знаем, святые отцы, которые опытным путём прошли путь духовной жизни, достигли святой жизни, они говорили о том, что Сам Господь Иисус Христос на Кресте испытал это страшное состояние, когда Он возопил к Богу Отцу, произнеся такие слова: «Боже Мой, Боже Мой! вскую Мя еси оставил?» (Мф. 27, 46). И это плюс к тому, что тело скорбит страшно, испытывая невыносимые страдания, что душа скорбит из-за того, что ученики испугались, разбежались, один из них предал, что смотреть на страдающую Мать, Которая стоит рядом у Креста, что терпеть плевания и издевательства… Ну висит человек на кресте, умирает, ну дай спокойно умереть. Нет, подходят, пальцем показывают и издеваются, говорят: сойди с креста (Мф. 27, 40). Ещё и духовные страдания, потому что Господь Иисус Христос по Своему человечеству всегда был обращён к Отцу. Хотя весь Его световой день проходил в трудах, Он ночью уходил от учеников, чтобы побыть в молитве и общении с Отцом Небесным. А здесь Он почувствовал, что нет этой связи, пустота. Это страшно. Это бывает только как результат греха, а Он никогда ни в чём не согрешил, что ещё страшней. Нечто подобное испытал учитель Церкви преподобный Симеон Новый Богослов, когда Дух Божий от него отступил. Потом он долго молился и плакал о том, чтобы вернулся к нему этот Дух. Некоторые люди, которые понимают в духовной жизни, думают, что и преподобный Серафим тысячу дней и тысячу ночей молился, стоя на камне, воздевая руки, не потому, что просто ни с того ни с сего человек приходит, становится на камень и зимой и летом там стоит, вопя к Богу, но потому, что Господь его оставил. Не потому что преподобный чем-то согрешил, а Господь хотел, чтобы он проявил упорство в своей любви, чтобы он хотел бы вернуть себе Бога. Только такая душевная нужда могла его понудить совершить этот подвиг, а не просто так он задумал попробовать это. Это совсем не так, это была потребность его души. Об этом нигде не сказано, об этом можно только догадываться, почему человек пошёл на подвиг такого рода. Каждый подвиг, если он совершается человеком духовным, он всегда имеет и смысл, и определённую целесообразность. У людей простых и самонадеянных это бывает самонадеянное мальчишество, поэтому все наши подвиги обычно долго и не простираются. День-два-неделя, если в прелесть не впадёт, то быстро все эти свои дурацкие подвиги бросает, потому что они идут от ума и от тщеславия, а иногда даже из-за какого-то глупого соревнования. Поэтому это всё недолговечно. Подлинный подвиг идёт изнутри, от потребности души и следует за верой. Несмотря на то, что мы в духовной жизни идём не шажками, а даже шажочками небольшими, постоянно скользим, падаем, тормозим, жалуемся на себя, дескать, ничего у нас не получается, в силу того, что, действительно, нам трудно ощущать уже привычное наше бытие, потому что мы очень люди неблагодарные, у нас плохая память. Неблагодарные в силу того, что мы, когда приобретём веру, мы забываем, что эта вера – это Божий дар. Нам кажется в силу повреждённости нашей природы, что мы каким-то образом в этом сами поучаствовали, в том, что нам Господь веру даровал. Такой элемент самообольщения есть у каждого, а на самом деле это дар Божий. Мы так ко всему привыкли: ну солнце, тепло, такой сегодня денёк был хороший, так замечательно. А ведь голубизна этого неба, это солнце, вся эта красота, такой лёгкий морозец, такой здоровый воздух – это ведь Божий дар. Для нас это так всё привычно: весна, тает последний снежок, вроде само собой разумеется. Нет, ничего не разумеется. Эта голубизна, чистота, это тёплое солнце, предвещающее лето – это дар Божий. Это Бог сочинил эти удивительные реакции ядерные, в результате которых это светило излучает тепло, а мы радуемся. Это он запустил этот Божественный механизм, в результате которого жизнь появилась на земле. Он нас создал, он создал Адама, который нам всем отец.
Мы ссоримся, негодуем, кого-то считаем чужим, воюем, ненавидим, а у нас общий отец – Адам. Причём христиане с мусульманами воюют, а в священных книгах и тех, и других написано о том, что и те, и другие дети Адама. Арабы с евреями воюют в Палестине, а у них ещё ближе праотец – Авраам. И тот народ, и тот, из чресел Авраама произошли. Они ещё ближе братья, вообще одна семитская группа, даже язык одинаковый во многом. Когда иврит возрождался, очень много из арабского пришлось брать и озвучивать, решать такую сложную лингвистическую задачу. Можно сказать, кровное естество, а всё равно как-то это человек забывает. Почему это забывается? Потому что страсти мутят ум и сердце. Человек, когда начинает жить по страстям, в результате своих страстей оказывается в бездне ада. Он отворачивается от Бога и перестаёт Богу верить. Очень важно нам понуждать себя постоянно, сейчас этим постом постараться как-то сосредоточиться на заповедях Божьих. Естественно, что у нас с какой-то заповедью дела могут обстоять лучше, а с какой-то хуже. У каждого из нас есть какая-то страсть, наиболее нас мучающая. Нарушая заповедь Божью, из-за этой страсти мы начинаем испытывать муки совести, часто уныние. Человек испытывает уныние – это дыхание ада. Весь мир живёт в аду, поэтому все люди и хотят как-то отвлечься, уйти в какой-то мир иной, чтобы только не быть в этом аду. Человек хочет убежать из ада, и каждый находит какой-то свой способ: один наркотики, другой забывается с какой-то другой женщиной, третий пьёт. Такая тоска, хоть выпить пойти. Человек понимает, что это ненадолго, но хоть временно отпустит. Хорошо ещё, если у человека есть какое-то занятие — любимая работа, дачу вагонкой обивает, в машине копается, какие-то коллекции собирает, гоняет на машине, как сумасшедший, но это уже денег надо. Каждый хочет как-то убежать. Самое распространённое и самое доступное – это телевизор. Включил и ушёл. Вот тебе “Эркюль Пуаро”, вот тебе “Комиссар Мегрэ”. Если не хочешь, вот тебе какие-то “Звёздные войны”, какие-то птеродактили ушастые зубам лязгают. Вот ты уже там. Смотришь – два часа прошло. Уже так устал, что скорей спать. Проснулся, а там уже на работу побежал, вроде некогда. Поговорили, покурили и опять домой. Ну что, выпить? Ой, сил нет уж пить, ну давай телевизор, правда, глаза болят. Человек почему устремляется к телевизору и ко всем этим заменителям подлинной жизни? Потому что ему тоскливо, его окружает тоска. Человек хочет развлечься, он хочет отвлечься от этой адской, безнадёжной жизни. Выход из неё реальный совсем не там, потому что это всё миры иллюзорные. Не обязательно телевизор смотреть, можно и в консерваторию ходить, ушёл в мир музыки или мир театрального искусства. Этого искусства уже нет, но некоторые остаются преданными театру, даже когда там нет искусства. Просто сама атмосфера нравится, особенно вешалка, буфет, наряды. В театре всегда ощущается какая-то приподнятость, запахи определённые. Уйти-то из ада можно только в рай, но путь туда очень долгий, очень сложный, очень опасный, очень болезненный и всячески затруднённый. Более того, все силы ада препятствуют – все наши привычки, всё воспитание, все наши чувства – всё этому препятствует.
Великим постом надо нам постараться как-то открыть пошире своё сердце, чтобы напитаться этой райской жизнью, по возможности угасить все наши стремления душевные и телесные, для того чтобы дать свободу духовному. В нас тоже есть духовная жажда, мы тоже ею томимся, у нас тоже есть опыт, потому что то, что мы испытываем в церкви, ведь мы нигде не можем этого получить. Это только здесь. Это надо расширить настолько, чтобы постараться пропитаться этим, чтобы потом не сползти слишком далеко. Святая Церковь заповедовала нам в этот последний день перед постом вспомнить изгнание Адама. Каждый из нас, не дай Бог, конечно, спаси и сохрани, может в одно мгновение лишиться всего того малого, что мы успели здесь собрать, даже если мы этого практически не ощущаем. Мы должны жить не чувствами, а верой. На самом деле это есть, и только лишившись, когда мы ощутим всю полноту уныния и оставленности Богом, только тогда мы сможем понять, чего мы лишились. В силу того, что мы не подвижники, Господь по милости Своей нас не оставляет, поэтому, если мы лишимся Бога, то это только по своей вине. Либо по лености, если охладеем к молитве, к Евангелию, к добрым делам, к окружающим нас страданиям или согрешим как-то тяжко, что Господь отступит от нас, может, подлость какую сделаем или отступим от Бога, либо ещё как-то смертно согрешим, не дай Бог, тогда вставать будет гораздо сложнее, а может быть, вообще не получится. Сколько я знаю людей за двадцать с лишним лет, что служу, сколько людей на моих глазах, хороших людей, отпали от Церкви. И где их сейчас носит нелёгкая, как же им тяжело, как их жалко. Некоторых даже иногда встречаешь, смотришь, он остался таким же хорошим, но духовная жизнь из него ушла. Он уже не испытывает жажды достигнуть Бога, в глазах уже нет такого, что есть в человеке, когда в нём есть духовная жизнь. Духовная жизнь всегда отражается в человеке – это действительно есть свет. Господь сказал: Не может укрыться город, стоящий на верху горы (Мф. 5, 14). Если в человеке есть хотя бы малая толика духовной жизни, это всегда видно. Как же тяжело бывает, когда это было, а потом это исчезает. Это самая большая потеря, потому что ничто в мире не может это ничем возместить. Несмотря на всё то малое, что нам удалось стяжать здесь, мы должны хранить это как зеницу ока. Мы должны непрестанно благодарить Бога, мы не должны останавливаться ни на шаг, мы должны всё время идти вперёд. Пусть вот так понемножку, тихонько и скромненько, потому что нет ничего страшнее, чем потерять это. Как только человек теряет духовную жизнь, эта жизнь превращается в бессмыслицу, и состояние этого человека бывает хуже, чем у неверующих. Неверующий человек – впотьмах, он, как зверёк, бедный, кинется то к одному, то к другому. В основном люди стараются друг другу подражать в поиске суррогатов, ищут каких-то утешений: что-то куплю, что-то съем, куда-то схожу, что-то погляжу, что-то выслушаю. В такой суете жизнь проходит.
Духовная жизнь – это совсем иное. Поэтому пусть память о том, что потерял наш праотец Адам и что каждый из нас может грехом потерять, сохраняется у нас не только в Великий пост, а всегда. Не нужно экспериментировать, нужно изо всех сил держаться за молитву. Пусть она и плохая, и сухая, и невнимательная, её и молитвой нельзя назвать, но всё равно. Как действительно утопающий за соломинку, нужно воспользоваться тем, что есть, той скудостью и бедностью. Но тем не менее стараться этого держаться. Нужно стараться по возможности наращивать, не только в молитвенной жизни, хотя, если бы она у нас была, это было бы основой, я имею в виду келейную молитву. Но и нашу общую совместную литургию, когда мы всем народом церковным, все вместе, по всему миру собираемся в воскресный день, чтобы прославить воскресшего Бога. Но и дела благочестия. Очень важно не только понуждать своё сердце к Богу, но очень важно ещё реагировать на этот мир по-христиански. В каждом отдельном случае отдельный человек, если он христианин, он должен поступать по-христиански. В каждом отдельном случае каждый из нас должен понять, что значит для меня в данный момент поступить по-христиански, и постараться это сделать. Только поступая по-христиански, человек может стать христианином, только единственным образом. В этом спасение, потому что, если мы не научимся поступать по-христиански, мы не будем христианами. Хотя внешне всё будет так: мы крещёные, крест носим, участвуем в службе и так далее. Это нужно для того, чтобы изменилось наше сердце. Но изменение сердца в этом и заключается, что неверующий, мусульманин, иудей, буддист, язычник, сектант в данной ситуации поступит вот так, а христианин православный поступит вот так. В этом и ценность православия, что бывает не единственный, а много вариантов, но ещё больше вариантов поступить не как православный христианин. Надо постараться иметь нам мужество и молиться о том Богу, чтобы Он дал нам возможность поступить по-христиански, чтобы Он нас и научил бы этому, и дал бы нам силу, чтобы мы поступали так, как это угодно Богу. Это будет свидетельство того, что мы действительно чему-то в Церкви научились. Мы же все должны быть ученики. Как Христос поступил? Он сказал Петру: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? (Мф. 26, 52-53). Он отдаёт Себя на смерть. Из огромного количества людей, тогда населявших землю, Он был один христианин. Можете себе представить, как Ему было одиноко на этой земле. А нас много, хотя мы такие ещё никудышные христиане, но есть и хорошие христиане. Нам легче, нам гораздо легче, потому что до нас за две тысячи лет этим путём, которым мы пытаемся идти, прошли миллионы людей. Прошли и спасли свою душу, остались верными Богу. И нам нужно найти в себе мужество, чтобы вставать, даже если мы падаем. Если нас Господь на месте не убил молнией, значит Он надеется, что мы можем восстать, значит нужно вставать и начинать сначала, как бы это ни было тяжело. Так и Великий пост, ведь на самом деле как? Пост прошёл, встретили Пасху – и всё. Проходит ещё год и опять пост. Почему? Учись дальше. Мы ничего не умеем, нам жизнь всё время ставит экзамен, а мы проваливаемся. Иди, поступай на следующий год. Опять Великий пост, опять и опять. А есть те, кто уже созрел.
Представим себе, сейчас кто-то ходит с ножом и хочет кого-то убить. Кто из нас скажет: «Я пойду», – «Нет, я пойду», – «Нет, я пойду»? Как у Елизаветы Фёдоровны две послушницы спорили, кому идти. Эти самые чекисты, которые их везли убивать, говорят: “Разрешаем только одной”. Варвара и её подруга спорили, кому идти. Варвара говорит: “Я старше, поэтому я пойду”. Пошла и приняла мученическую смерть. Спорили две девушки, кому вперёд умирать. Причём это не расстрел, живыми кидают в шахту, а потом ещё гранатами забрасывают, и они там умирают, не только от ран, но ещё от голода, холода, инфекции и жажды. И вот они спорят, кому умирать. Вот это христианство настоящее.
А мы десятилетиями в церковь ходим, не можем потерпеть, что кто-то что-то сказал, кто-то что-то подумал, обидел. Хотя бы потерпеть и простить человеку его выпады против нас, обиды. Все мы дети Божьи, все мы дети Адама, Господь за нас кровь пролил. Между нами общего гораздо больше, чем различий. Эти различия становятся для нас иногда так ужасны и так велики, что доходит до войны, приходится людям друг друга даже убивать, какой ужас. С другой стороны, благодаря таким экстремальным ситуациям, проявляется и самое лучшее, что в нас есть. Пост затевается Церковью для того – и уже он существует долго, почти с самого начала жизни Церкви – чтобы всё лучшее, что в нас есть, по возможности проявить. Помоги нам в этом, Господи!
https://www.dimitrysmirnov.ru/blog/propoved-110248/