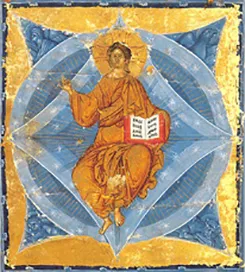Памяти преосвященного Феофана, затворника Вышенского (девять неизданных его писем) 1905г.
В нынешнем году исполнилось десять лет со дня кончины приснопамятного святителя Феофана, затворника Вышенского. В день Богоявления, 6 января 1894 года, достопочтенный архимандрит отец Аркадий, настоятель Вышенской пустыни и единственный посетитель кельи затворника, нашел тело владыки бездыханным. Святитель лежал на постели; левая рука его была у груди, а правая рука была опущена и имела персты сложенными для архиерейского благословения. Когда почившего стали по архиерейскому чину облачать в домовой церкви в святительские одежды, то лицо его озарилось радостной улыбкой. Все чувствовали, что скончался муж необыкновенный, муж благодатный. И ныне чем более уходит вдаль времени, чем более приводятся в известность творения почившего святителя, чем более они изучаются, тем более обнаруживается глубина и богатство в оставленном им для нас духовном наследстве. Тем более выступает для нас великой фигура святителя, выступает она в рост древних отцов и учителей Церкви. Такое высокое достоинство за его трудами признается нашей академической наукой. Маститый протопресвитер Янышев, например, в своем курсе нравственного богословия самостоятельно излагает почти все вопросы своей науки, но в отделе о благодати всецело и исключительно следует авторитету преосвященного Феофана.
Богато одарил Господь преосвященного владыку Феофана. Он в совершенстве владел научными средствами, каково знание древних и новых языков, каков и литературный талант. При богатейших способностях и трудолюбии он имел глубокие познания не только в богословских науках, но и в светских, из последних особенно в естествознании. При этом он обладал способностью и тонким чутьем в искусствах, так что хорошо рисовал иконы, играл на фисгармонии. Искусны были персты владыки Феофана и в рукодельных занятиях, каковы шитье, вышивка, резьба, столярство и токарство, которыми он разнообразил свой труд, особенно во время затвора. При столь богатых средствах для проявления своей силы духа в широкой общественной деятельности он оставляет высокое положение епархиального архиерея и удаляется в безвестную Вышенскую пустынь. Здесь он пребывает «на покое» в течение 28 лет до самой своей кончины, причем в течение двадцати одного года закрывает двери своей кельи для всех, кроме двух лиц – настоятеля обители и духовника. Приходят к его келье многие высокопоставленные лица, великие князья, архипастыри и даже известный всероссийский пастырь (отец Иоанн Кронштадтский), – однако двери эти и для них не были открыты. В течение последних одиннадцати лет своей жизни преосвященный Феофан совершал в своей келейной церкви Божественную литургию ежедневно, но и ее совершал он буквально один.
Что же это был за покой у владыки Феофана? Этот покой был напряженнейшей деятельностью в молитве и христианском подвиге, он был научной работой, давшей нам десятки томов драгоценных богословских сочинений, он был, наконец, делом духовного руководства обращавшихся к нему посредством переписки лиц. По заявлению высокочтимого отца архимандрита Аркадия, несколько десятков писем почти ежедневно поступало к владыке Феофану, и он на все их давал ответы. Для одних ответ следовал у жертвенника келейной церкви, для других владыка писал. Таких ответных писем напечатано теперь почти на десять выпусков. Из такой частной переписки преосвященного Феофана у нас сейчас имеется девять писем, которые до сих пор полностью еще не напечатаны и которые мы огласить намереваемся.
Дорога каждая строчка незабвенного святителя, незаменимого наставника в духовной жизни. И в предлагаемых вниманию читателя письмах немало есть характерного в том, в чем наиболее велик преосвященный Феофан, именно как самый глубокий и вместе с тем простой (евангельски простой и глубокий) психолог духовной жизни.
Предлагаемые вниманию читателей письма писаны были преосвященным Феофаном к слепому валаамскому иноку отцу Агапию, который принял монашество в Александро-Невской лавре в бытность преосвященного ректором Петербургской духовной академии. Пока преосвященный Феофан был в Петербурге, до тех пор дорожил Петербургом и отец Агапий. Когда преосвященный Феофан удалился на Вышу, тогда отец Агапий переселился в строгую Валаамскую обитель на Ладожском озере. С Валаама отец Агапий писал на Вышу о своих недоумениях и на Валааме же получал ответы. Какова личность отца Агапия, лучше всего характеризует владыка Феофан, особенно в своем последнем письме. Письма эти предоставил нам сам глубокочтимый незабвенный батюшка отец Агапий после посещения нами Валаама и его благословенной кельи летом 1903 года.
Из предлагаемых писем имеется в печати отрывок первого письма, именно в афонском издании «Собрание писем святителя Феофана» (вып. 5, письмо 939), а также недавно полностью помещено нами последнее письмо в «Церковных ведомостях» (1904 г., № 38). Вот эти девять писем.
1.
Милость Божия буди с вами, достопочтеннейший отец Агапий.
Кроме того, что вы видите в помянутой вами книжке о молитве Иисусовой, я ничего вам прибавить не умею. Если для вас мало того, то потрудитесь сами просмотреть об этом в той книжке, на которую та книжка указывает.
А что покажется и после недостаточным – спрашивайте у своих Богом вам данных руководителей: настоятеля обители, духовного вашего отца, отца восприемного и единомысленных братий.
Я скажу только, что сила не в словах молитвы, а в духовном настроении – страхе Божием, и в преданности Богу, и во всегдашнем внимании к Богу, и Ему предстоянии умном.
Молитва Иисусова есть только пособие, а не самое существо дела.
Положите себе жить в памяти Божией и ходить в присутствии Божием, – и это одно приведет вас к доброму концу. Все же от благодати Божией, без благодати Божией никаким другим способом ничего духовного приобрести нельзя. Как уканет (изольеться, нападет, капнеть) благодать в сердце, тогда все пойдет, как следует быть. Имеем Господа Спасителя, хотящего всем спастися; докучать Ему надо – и подаст. Читали в «Добротолюбии», как один некто два года бился и добился, что огонек в сердце затеплился?
Благослови вас, Господи!
Не решаю вопросов ваших. Это должны решить для вас вам Богом данные руководители.
Спасайтесь!
Прошу молитв.
Епископ Феофан 7 августа 1884 г.
2.
Милость Божия буди с вами, достопочтеннейший отец Агапий! Тому состоянию, в котором вы себя чувствовали во время святого поста, нельзя не порадоваться.
Благослови вас, Господи, и всегда так пребывать.
Восприимите смиренное ничего себе неприписывание, видение одних своих недостатков, погрешностей и опущений и болезненное из сердца взывание: «Боже, милостив буди мне грешному!» И благодать Божия никогда не отдалит от вас своего осенения и покрова. Аминь.
Послушание, на вас наложенное, надо нести. Это враг вас мутит. И все ваши изветы – его суть изделия.
Без послушания быть в обители стыдно. И вам дано послушание для избежания сего стыда, и притом такое, которое вам подручнее всякого.
Вы исполняете его сидя, одним словом. Что легче слова? – А добра от него сколько? Вы говорите: «не способен». Об этом не вам судить, а отцу игумену. Да вам думать о способности или неспособности не следует, а приказано делать, и делайте, не рассуждая. Рассуждал Марк, кажется, когда авва его велел ему сдвинуть большой камень?! Так и вам следует. – «Ни ума, ни жизни нет у меня, подходящей к такому послушанию», – говорите вы... Если бы этого не было в вас в какой-либо мере, отец игумен, конечно, не тронул бы вас. Разве он враг братий, которых отряжает на вашу долю?..
«Ученики – помеха в молитве». Никакое доброе дело не может быть помехой в молитве: добрые дела и молитва – родные сестры, и одна другой руку подают... Всего очевиднее, по этому внушению, можете догадаться, что смущает вас враг.
«Старчество затруднительно ныне». А когда оно было свободно от затруднительности? По самому свойству своему оно затруднительно. Но ему всегда присуща помощь свыше. «И непосредственное внушение», что сказать... Вставьте во всегдашнюю свою молитву призывание помощи на свое послушание – и она будет приходить...
«Старчество малоплодно». Это несправедливо. Никакое слово не останется бесплодно. Только плод не тотчас появляется. Да как вы судите о плодах?! Если бы вам повелено было всех сделать святыми, другое дело. А вам сказано только: «Придут братья, сказывай им, что Бог пошлет».
«Отвечай за них». – Если не будете говорить, что нужно, будете отвечать; а коль скоро вы с любовью говорите все должное – вы свое дело сделали... и отвечать не за что.
«Поступают в монастырь не ради спасения». Коль скоро кто пришел в монастырь, значит, у него есть духовная зазноба. Но вначале она слаба. Вам предстоит развить ее и усилить. И трудитесь. Труд с Божией помощью все преодолевает. Припоминайте, как запущенные поля делают плодоносными.
Молитесь о всех, вам врученных, со слезами, каждому испрашивая благопотребного... и себе просите вразумления.
И потом не беспокойтесь, ни что сказали, ни что еще сказать, ни что из того вышло...
Разве Бог отказался от учеников ваших?! Они Его суть, и вы не можете о них пещись, сколько Он.
Припомните, что малоуспешность иногда скорбь причиняет потому, что от этого гонор старческий страдает. – И поопаситесь сего.
Читайте Варсонофия и Иоанна, Лествицу, Кассиана. Шлю вам «Добротолюбия» 2-й том.
Спасайтесь!
Ваш доброхот
Епископ Феофан 3 мая 1885 г.
3.
Милость Божия буди с вами, достопочтеннейший отец Агапий.
Был у нас отец Михаил и доставил мне ваше письмо. Вы укоряете меня, что не ответил вам на два письма.
На одно письмо я ответил, и подробно. Но потом получил второе, где вы пишете, что я не ответил вам на первое. Из сего я заключил, что письмо не дошло до вас. Почему, считая писание бесполезным, когда письма не доходят, не ответил на второе.
Если я плохо поступил, прошу извинения. Мне не неприятно вести с вами беседу в чаянии научиться от вас духовному деланью. Вы нашли драгоценную бисеринку. Слава Богу! Теперь держите ее и по какой-либо ошибке не продайте или не променяйте ее на глиняные тетерки 107. Пребывайте в том, что есть, болезненно припадая к Господу, да соблюдет Он в вас великий дар сей неутраченным. Я не имею что сказать вам и пишу, чтоб приложить прошение – помолитесь, чтобы и мне многомилостивый Господь даровал сию бисеринку. А прежде того, чтоб даровал мне дух покаяния и утвердил в нем – ибо без этого никакой дар не дается и плодов не приносит.
Вы что-то упоминали о порядках в монастыре. Какое нам с вами дело до тех порядков? Они не на нашей шее лежат. Тот и пусть кряхтит от них, кому они поручены.
Спасайтесь.
Епископ Феофан 23 июля 1886 г.
4.
Милость Божия буди с вами, достопочтеннейший отец Агапий.
Получил ваше последнее письмо. Благодарствую, что вы не серчаете на меня за мое неписание.
Вы все спрашиваете и желаете слышать о духовном, а я по этой части недоучен. Почему и нахожу, что лучше помалкивать, чем говорить, не зная дела. Ведь очень худо, если бы кто спросил: «Куда дорога на Валаам?» – и я указал бы ему такую, по которой он не знает, куда зашел бы. В духовной же жизни эти неподходящие указания еще пагубней.
Память Божия, память смертная, дух сокрушен... и болезненное к Богу припадение: о, Господи, спаси же: о, Господи, поспеши же (Пс.117:25)! Се – прямая дорога! Не мое это слово, а всех старцев, прямо на дело смотрящих. Кто попадет на это, тому нечего охать!
Посылаю вам книжки: «Невидимая брань» – вам, отцу Александру, что теперь схимник, и отцу Агафангелу. Желаю, чтобы вы в этой книжке нашли все вам нужное.
Прошу ваших святых молитв!
Благослови, Господи, всех вас!
Ваш богомолец
Епископ Феофан 2 октября 1886 г.
5.
Милость Божия буди с вами, достопочтенный отец Агапий.
Очень рад начать опять с вами беседу. Бог да благословит вашу братскую о Господе любовь! Очень утешительно видеть, что ваша ревность о делании внутреннем пребывает в вас в силе и занимает внимание ваше.
По силе моей разрешу ваши недоумения и вопросы. «Можно ли при молитве Божией Матери и святым стоять вниманием в сердце?» – Можно. Где же стоять, как не там? Молитва всякая должна из сердца идти. Следовательно, там и внимание должно быть. Разность же молитвы состоит только в смысле и вере, с коими молимся. Все одно, как поклон: кланяемся пред иконой Спасителя – Спасителю; пред иконой Божией Матери – Божией Матери. Поклон как поклон разности не имеет: разность вся в духе и значении поклона.
«Есть ли какая разница: молиться со вниманием внутри сердца или при устах, внимая словам молитвы со смиренным и покаянным чувством, при неотходном памятовании Бога Вездесущего и Всезрящего со страхом и благоговением?» – Последние слова (что я подчеркнул) составляют дух молитвы. И у кого это есть, тот стоит в сердце: ни о словах, ни об устах помышлять ему некогда и на ум не приходит. Эти слова: «при устах внимая» – новая выдумка, нигде у святых отцов не встречаемая. Кто-то еще придумывает: стоять вниманием на конце языка. Прежде когда-то были умники, которые внимание держали на пупе, и их прозвали пупниками, а этих наших модников надо прозвать язычниками и губниками... Вон ваши же слова подчеркнутые составляют существо молитвы; все прочее – наклонение головы, стеснение дыхания, сидение на стульце, введение слов молитвы через ноздревое дыхание и эти – конец языка и губы – будь не будь, это простая обстановка, ничего существенного не имеющая. Образец для молитвенного труда дал Максим Кавсокаливит (в «Добротолюбии»). Два года молился, пока огонек уканул в сердце. Это был дар благодати – и отселе у него стала непрестанная молитва, истинно духовная. И доселе у него была теплая и усердная молитва, но настоящая молитва стала после огонька. Сие, отцы и братия, подобает иметь во внимании, заботе и попечении. Обстановка молитвенного труда – несущественное дело. И при сей обстановке некая теплота приходит в сердце – но это наша трудовая, а не благодатная. Считать и эту благодатной есть прелесть. Так говорит Никифор, так Игнатий и Каллист... и другие...
Второго вопроса не понимаю. Говорите что-то о помощи уст и языка, а между тем слова говорятся в сердце... Если в сердце, то зачем тут мысль об устах и языке? Надо все внешнее выбросить... Имей то, что выше подчеркнуто, и все тут. Стань так и клади поклоны, взывая: «Господи, помилуй!»
«Можно ли говорить: Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй нас». – Можно. Но откуда родился вопрос? Не взываем ли в церкви: «Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас»?!
«Можно ли вместо слова мя говорить нас?» – Можно. Когда молитва о себе – мя, когда о всех или многих – нас.
Мысль о молчании и уединении – добрая мысль. Но ведь вы и так сидите одни, а когда одни, с кем говорить? Иногда же поговорить с братом единомысленным куда как хорошо. К тому же бываете в церкви... Если при сем, при выходе, брат спросит о чем, ужели рыкнуть на него, яко лев? Так, я думаю, вам вот как можно: церковь да келья – закон неотложный, без крайней нужды никуда не выходить; по братским кельям не ходить, а по лесу можно пройтись, чтобы вместе со всяким дыханием восхвалить Господа; особенно же чтобы испытать, твердо ли душа стоит вниманием в сердце. И для здоровья это не худо. Самому на беседу не навязываться, а когда кто в нужде духовной заведет речь, надо поговорить с ним добре. Это то же, что капитал пустить в оборот, – а все молчать, когда даже спрашивают, есть то же, что деньги в сундуке запрятать и беречь без всякой от них прибыли.
Когда при умилении слезы приходят сами собой, пусть идут, а когда не приходят, и одного умиления сердечного достаточно. Можно себя раздразнить на слезы и поплакать, но не следует этого считать чем-нибудь, хотя слезы всегда умягчают сердце.
Отцу Агафангелу. Одно дело – откровение помыслов, а другое –исповедь. Первое есть подвижническое правило старческое; второе –Таинство Церкви. В каком смысле назначены к вам ученики, в том ли, чтоб вы исповедовали их, разрешали и епитимии на них налагали, или чтоб, только выслушав их откровение, вы давали им руководство, рассеивали смущения, разъяснили недоумения, утешали? – Только в последнем смысле. По сказаниям отцов, душеспасительно самое откровение, без всяких прибавлений. Приемлющий откровение может сказать: «Ну ничего, Бог простит» и прибавить: «положи немного поклонов...» Но это не то, что бывает в Таинстве Исповеди, – это отеческое благожелание. Такое производство дела касается грехов простительных – тут само откровение дает прощение. Явное же нарушение заповеди разрешается действием Таинства Исповеди.
При каких грехах можно ограничиться одним откровением и какие требуют исповеди – это старцы пусть разрешат между собой общим советом. Вам, как иеромонаху, можно совершать Таинство Исповеди для своих учеников, и это будет настоящее разрешение, и епитимия, если наложите, очистительна будет. Но делать ли это самому по себе или спросить настоятеля? – В монастыре есть общий духовник-исповедник. Исповедание кроме него есть новость в монастыре. Но ничего нового в монастыре никто вводить не может без воли настоятеля. Потому вам следует спросить настоятеля. Но если вы иной раз найдете удобным совершить Таинство Исповеди, то тут греха не будет, ибо вы имеете на то власть, а будет только нарушение порядка монастырского. Как вам быть, уж сами смотрите. Я бы сказал: если не выйдет никакого нестроения в монастыре, совершайте Таинство Исповеди над своими учениками, когда нужно... по Требнику. Но лучше спросить у настоятеля позволение.
Благослови вас, Господи!
Спасайтесь!
Прошу молитв.
Ваш доброхот
Епископ Феофан 23 марта 1886 г.
6.
Милость Божия буди с вами!
Вот и добре! Благослови вас, Господи, быть так, как написали. И совсем забудьте и кончик носа, и губки свои святые. А будьте исполнителями правила, Филофеем Синайским изреченного: «С утра стань у сердца и именем Иисуса бей ратников». В молитве что много заботиться о словах и произношении их? Все должно быть поглощено чувством к Богу, или сокрушением, или благодарением, или славословием, или прошением чего потребного для души и для тела, и для внешнего положения с верой и упованием. Такие чувства и подобные им да порождают вопль к Богу, и сей вопль будет настоящей молитвой, и, скажу, единой истинной. Прежде начала молитвословия надо оживлять сии чувства размышлением, напряжением внутренним на них и молитвой о них, а потом и весь день пребывать с ними. И будет сие непрестанная молитва. Искание у Господа с верой и упованием и сокрушением всякое благо духовное исторгает из рук Божиих и молитву испросит достодолжную. Имейте в мысли Максима Кавсокаливита. Вопиял он от всея души и от всего помышления своего, и Господь даровал ему... И это дарованное стало для него источником духовной жизни. Сего ищите и о сем вопияйте. Не сласти ищите духовной, а того, чтобы со страхом и трепетом стоять перед Господом, Божеское Ему воздавая поклонение. Буди вам сие по богатству милости Господней!
Говоря о состоянии вашей молитвы, на третьем месте полагаете недоброе состояние, которое изображаете так: «Бывает так стеснительно, что ни ум, ни сердце не могут произносить молитвенных слов, а как бы умученные и убитые, в неподвижном стоянии внутри, в чувстве своего ничтожества и покаяния». Не умею понять, почему вы такое состояние называете недобрым? Стоять внутри неподвижно и, конечно, перед Господом есть хорошее состояние. Если при этом имеется еще чувство своего ничтожества и покаяния, то и лучше и желать ничего нельзя. И стойте так, не отходя от Господа, хоть целый день. Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс.50:19).
Чувство ничтожества – мытарев глас спасительный; чувство покаяния – дверь в Царствие. Если таковым именно ваше состояние бывает, то им нечего тяготиться, а надо развивать чувство ничтожества и покаяния и разогревать до пламенности. Может быть, вы не точно описали его, а судя по вашим словам, его не следует считать худым. Во всяком случае не надо при сем обращаться за помощью к устам и концу языка.
Ничем вещественным и телесным духовного добыть нельзя.
Скорее следует обращаться к богомыслию и размышлять о Божиих свойствах, делах и таинствах. Если это трудно, читайте какие-либо молитвы на память или какой-либо псалом или свою слагайте молитву по состоянию своему, ибо Господь близ. И это вернее направит ваше состояние, если оно действительно не хорошо.
Далее пишете: «Я имел некоторое сомнение, думая, что умная молитва выше устной пред Богом», но мое предыдущее письмо уверило вас в противном. Так говорить нельзя без каких-либо оснований. Я же не помню, какое течение мыслей привело меня к тому, чтобы сказать так. Повторяю вам положение молитвы. Молитва есть ума и сердца возношение к Богу, или вопль из сердца к Богу. Сие возношение и сей вопль могут иметь место в душе и исторгаться из сердца без слов, то есть не облекаясь в слова, или, как обычнее, они облекаются в слова и ими выражаются. В первом случае молитва бывает бессловная, а во втором – словесная. Такое слово, молитву выражающее, бывает или внутреннее, там, в сердце, образующееся, или не внутреннее только, но и внешнее, языком и гортанью произносимое. Первое есть умное, мысленное, а второе – устное. Словесная молитва бывает еще своя, своим словом изрекаемая, или чужая, заученная или по молитвеннику читаемая. Всякая словесная молитва, внутренним или устным, своим или чужим словом выражаемая, – одинаковой есть цены перед Богом, коль скоро выражает молитвенные чувства и мысли к Богу или сопровождается ими. Внутреннее слово свое всегда исходит из сердца и ума, потому молитва внутренним словом своим всегда есть молитва настоящая. Молитва же заученным словом может не сопровождаться соответственными мыслями и чувствами и потому не быть молитвой, а только звуком молитвенным. По сим определениям извольте различать, когда умная молитва может быть ниже устной.
Во-первых, это может быть только со словесной молитвой, не своим, а чужим заученным словом мысленно произносимой, и во-вторых, когда при сем в душе не имеется соответственных молитвенных чувств.
Прилагаю ответы на ваши вопросы:
1. На литургии побыть в церкви довольно на одной, и ее, как и вечернее правило, келейной молитвой заменить можно. О последнем, кажется, надо испросить разрешение у настоятеля. Да и о первом, если у вас положено, чтоб лица, вам подобные, бывали на всяком собрании церковном.
2. Скоро ли лучше или не скоро молитвословить? Вопрос этот у вас самих решен. Вы говорите: «Стараюсь всякое молитвенное слово доводить до чувства и чувствую от сего большую пользу». – Старайтесь и всегда так делать, и вопрос – скоро или медленно – совсем не родится.
3. «Люблю читать, но и молитву ради чтения оставлять сомневаюсь». Молитва выше чтения; потому оставлять молитву ради чтения незаконно. Чтоб сии духовные делания одно другому не мешали, надо точно определить молитвенное келейное правило мерой и числом и всегда исполнять его в настоящем молитвенном духе, не оставляя, не умаляя и не ускоряя исполнение его ни ради чего... Еще: за чтением ли или за другим каким делом найдет молитвенный дух, оставлять надо всякое дело и молиться. Можно это и сидя или ходя, но лучше стать на обычное место и класть поклоны, пока душа насытится. Главное наше дело – к Богу приближение, которое бывает преимущественно в молитве. Молитве потому все должно уступить.
4. «Что такое молитва без слов?» – Есть неподвижное пребывание в молитвенных чувствах к Богу, не произнося ни в уме, ни устами никаких слов. Это высшая степень молитвы. Непрестанной молитвой может быть только такая молитва. То, что вы назвали недобрым состоянием молитвы, ближе подходит к этому.
Да будет дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно... и будет молитва в душе...
Отцу Агафангелу. Что вы после хлопот по смотренью за постройками беретесь за чтение, это хорошо, когда мысли разбрелись и душа опустела. Чтение собирает их и займет душу божественными предметами. Но потом надо отдать долг и молитве. Молитесь усерднее и собраннее в церкви. Укрепившись тем, будьте в памяти о Боге и о Его присутствии с соответственными чувствами и во все время надзора за постройками. Молитва, таким образом, не будет подавляема, а разве только немного пресекаема... И добре будет... Определите время для молитвы келейной и исправляйте его неотложно. Прочие затем дела келейные распределите как знаете, включив в сей порядок и чтение.
О избираемых в настоятели. Кто же может смело сказать, что он гож для настоятельства? Потому лучше с этой стороны и не смотреть на дело избрания в настоятели. А надлежит смотреть на него как на назначение послушания – пусть принимают сие как назначение в монастыре на привратничество, водовозничество, хлебопечение и всякое вообще монастырское послушание. И исполняют его всеусердно, со всяким рассмотрением и вниманием. Сказать, что негож, и попросить, чтоб уволили от сего, нет греха. Но упорничать не должно. Вот все, что требовалось разъяснить вам.
Извольте исполнить мою покорнейшую просьбу: перепишите сие письмо и все прежние письма, и копии пришлите, чтоб мне знать, что написано вам. Память у меня слаба.
Благослови вас, Господи!
Спасайтесь!
Ваш доброхот
Епископ Феофан 6 июня 1888 г.
7.
Милость Божия буди с вами, достопочтенный отец Агапий. Благодарствую за память и молитвы о моей многогрешности, да услышит их Господь и да уврачует немощи мои.
Спрашиваете, как отнестись к болезням? Относитесь так же, как и к слепоте, то есть как о слепоте радуетесь, так радуйтесь и о других болезнях и благодарите Бога искренно, ибо все от Бога и все к благу нам.
Лечиться ли? Отчего не лечиться? И лекаря, и лекарство Бог сотворил. Разве излишне Он их сотворил? Нет, а затем, чтоб они болезни врачевали. Отвращение от лекаря и лекарства – Богу укор.
Не лечиться можно, определяя себя на терпение, но надо бояться, как 6ы не прокралась самонадеянность: «пусть лечатся слабые, а мы сильны» ... За такое о себе думание находит ропотливость. Лучше так: пришла болезнь, полечиться; пройдет боль от лекарства, слава Богу; не пройдет – терпеть и Бога благодарить.
«Не могу, – говорите, – трезвиться и бодрствовать». Если это, как пишете, находит и отходит, то это ничего... А если тянется долго, надо взбодрить себя богомыслием или созерцанием таинства веры нашей, особенно – смерти, суда, ада и рая. Страх Божий надо разогревать, в нем великая возбудительная сила. От ослабления его находит леность, нерадение и сонливость. Имеем Врача душ и телес... К Нему со всеми нуждами прибегать подобает, ибо Сам зовет: приидите ко Мне вси... Сами говорите, что молитва внутренняя помогает, на нее и налегайте. А это что, невоздержание в пище и лакомство? Полагаю, что вы на себя клевещете: какое у вас там лакомство?! Щи да каша или хлеб да вода. – А как вы управляетесь с душевными немощами и помыслами, лучше этого ничего придумать нельзя. Благослови вас, Господи, так вам быть настроенным всегда.
Как в церкви быть, внутренно ли молиться своей молитвой или слушать, что читается и поется? Разогревайте свою внутреннюю молитву и при ней слушайте... Молитва внутри – печка, а слушание – дров в печку подбрасывание: у нас поется и читается все молитвенное. Но если слушание разбивает внутреннюю молитву, то лучше оставаться со своей сей молитвой; но на литургии надо и мыслями, и чувствами идти вслед за службой. Вот еще что надо помнить: в церковь собираемся на общую молитву, чтоб и мысль, и чувства, и слово было у всех одно, иначе не получим что обетовал Господь, когда два или три молятся.
Спасайтесь!
Ваш доброхот
Епископ Феофан 15 июля 1888 г.
8.
Милость Божия буди с вами, достопочтенный отец Агапий.
Оба письма ваши я получил зараз, приношу благодарность за память и благожелания. Прошу не забывать меня и в молитвах ваших.
Вы наговорили на себя в письме так много, что, не умея поверить тому, я нашел лучшим понимать то в противном смысле, именно так: когда вы говорите, что не имеете чего-либо, я разумею так сам, что вы то имеете, и говорю: «Слава Богу...»
Все немощи, какие вы написали, и у меня есть... Я вижу и стараюсь преодолеть их и уврачевать. Иногда успех бывает, а потом опять старое. Скажу, однако ж, как я поступаю. Главная и у меня с вами забота о трезвении и умной молитве, они вместе идут, и одно без другой не бывает. Умная молитва по форме очень проста и, кажется, очень доступна. Вот: низойдя умом в сердце и уставясь там перед лицом Господа, взывай о том, чего ищешь, взывай: «Господи, даруй мне молитву!» Трезвения ли ищешь, взывай: «Господи, даруй мне трезвение!» Терпения ли ищешь, взывай: «Господи, даруй мне терпение!» и прочее, и все так...
Лучше всех взываний есть: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Творите так и будете иметь умную молитву. Но беда наша в том, что мысли разбегаются, за ними уходит и внимание, и ум начинает блуждать вне и не знает, куда уходит. Молитва и пресекается, хоть и стоим на молитве. Как же быть? Не вижу нигде указаний; одно все говорят: когда опомнишься, воротись опять в сердце и начинай опять взывать из сердца, взывай и о том, чтоб ум не убегал вовне. Опять убежит ум, опять вороти его и опять берись взывать – и все так... Что же выйдет? Будет ли конец сему убеганию? Надо бы ему быть, но у нас с вами все не клеится. Мне думается, что если приложить к сему борению самоукорение на себя и прошение у Господа трезвения, то Господь, увидев наше терпеливое искание и искреннее желание трезвения, подаст нам по милости Своей. Трезвение есть дар благодати, и самому его достигнуть невозможно, а надо только трудиться над исканием его и молить Господа о нем в чаянии Божия присещения. Как искать? Замечаете ли, что когда есть в сердце чувство, тогда внимание не отходит от сердца: потому заключаю, что если делать так, чтобы приступить к умной молитве не иначе как наперед возбудить в сердце какое-либо святое чувство, то внимание не отойдет от сердца, со вниманием будет там ум и умная молитва. Попробуйте так, может быть, дело пойдет на лад. – Какое чувство? Всякое святое. Славословие, благодарение, сокрушение, страх Божий, самоуничижение и прочее... Помолившись так, сядьте и почитайте что духовное, лучше всего о трезвении и молитве. Потом походите и подумайте, а то поговорите с кем все о том же... А блуждание мыслей как? Когда будет чувство в сердце, они не будут блуждать. Когда кран в самоваре отвернут, вода течет неудержимо, а когда завернешь кран, вода останавливается; так и с мыслями: все текут и текут, завернешь кран и перестанут. Это завернутие крана есть возбуждение святого чувства в сердце и держание его.
Это будет все искание, увидит Господь и даст искомое. Надо облещись в одежду смирения и держать глубокое чувство своего ничтожества и скудости во всем... Когда нет такого чувства, Господь не даст дара трезвения.
Больше об этом не умею что сказать. Еще жалуетесь на недостаток терпения. Терпение никак не водворится в вас, если не будете держать глубокое чувство, что все встречающееся с вами встречается по воле Божией. Потому встречайте то с полной покорностью воле Божией, как бы Бог стоял перед вами и приказывал вам терпеть. Тут же придет и смирение, и нищета духовная... и все тревоги ваши прекратятся.
Скорое читание заученных молитв, конечно, нехорошо – а ведь это в вашей же власти. Как заметите это, прекращайте и начинайте читать неспешно.
Мера для читания молитв по молитвеннику или на память – имейте понимание и сознание читаемого; так читайте, чтобы все читаемое сознаваемо было. Этим и скорость определяйте. Помните вы 24 молитовки святителя Иоанна Златоуста? Прочитывайте их почаще, прибавьте к ним другие из псалмов или церковных песнопений и тоже затвердите – и читайте с соответственными мыслями и чувствами. Можно ими и все молитвенное правило заменить, но для вас в этом нужды нет. Что-то вы помянули об отношении своем к монастырю. Вам до него дела нет, там настоятель есть, других начальственных лиц достаточно; как их Бог вразумит, так и делают. Вы же только молитесь: «Помоги им, Господи! Вразуми, укрепи!»
Спасайтесь!
Ваш доброхот
Епископ Феофан 22 сентября 1893 г.
9.
Милость Божия буди с вами, достопочтенный отец Агапий! Беретесь прочитать мои книжки. Мне всегда приятно слышать, что кто-либо читает мои книги. Думаю, почитает, и если найдет что, то поклончик положит о помиловании меня, многогрешного. Дивиться буду, если вы найдете у меня что-либо пригожее для вас. Вы уже зрелая ягода, а мои писания новоначальнические все... Помолитесь, чтобы Бог иногда дал мне разум написать кому-либо что-нибудь полезное.
Большая вам милость, что молитва ваша бывает нерасхищенная... Но говорите, что случается страдать от охлаждения. Откуда у вас быть охлажденью? Оно приходит, когда лишнее съешь, лишний час соснешь, чувства распустишь и многого насмотришься, наслушаешься, и особенно когда много поговоришь... Всего этого, я думаю, у вас нет. Откуда же охлаждение ваше? От чего-нибудь внутри недоброго. Бывает оно от самодовольства. Уты, утолсте, разшире (утучнел, отолстел и разжирел) (Втор. 32:15) душа самодовольная, и ничего ей больше не нужно – оттого и молится холодно. Сознание своих нужд духовных рождает чувство скудости духовной, и тогда душа невольно начинает вопить ко Господу: Господи, помоги, Господи, вразуми, Господи, утеши! – Я думаю, что и это у вас есть, то есть нищета духовная.
Так, должно быть, у вас охлаждение оттого, что душа, день, другой, третий, пятый, десятый потрудившаяся добре в молитве, чтении и богомыслии, все со вниманием и чувством, требует наконец отдыха, паузы, перерыва напряженной деятельности. В таком случае с душой ничего не поделаешь... а остается только терпеть ее... все обычно по уставу заведенное исполнять... а охлаждение терпеть, моля Господа смиловаться и воротить подобающее чувство. – И пройдет... Ибо это состояние проходчиво.
Ведь вы ходите в церковь?! Бывание в церкви с терпением и вниманием тоже расшевеливает душу.
Постоянное охлаждение бывает только при постоянном грехолюбии и греходелании... а без этого оно всегда переходчиво.
У всех отцов поминается об охлаждении... и все дают уроки, как быть в сем случае. Учитесь у них...
Благослови вас, Господи!
Прошу ваших молитв!
Прошу молитв и у тебя, Адриан, раб Божий. Благослови тебя, Господи!
Епископ Феофан 22 ноября 1893 г.
Таковы девять писем высокого наставника к достойному его ученику. В письмах одинаково поражают смирение и глубина разумения сокровеннейших высоких движений духа в одном, высота духа вместе с детской простотой в другом. «Все (в душе) должно быть поглощено чувством к Богу, или сокрушением, или благодарением, или славословием, или прошением чего потребного для души, и для тела, и для внешнего положения, с верою и упованием» (письмо 6), – разъясняет иноку незабвенный владыка Феофан. Как это потребно и для нас, пастырей, в нашем пастырском деле!