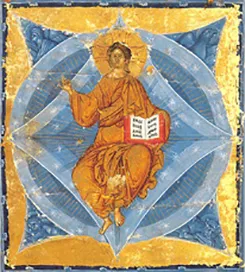Дело и деятельность Переводческой комиссии Православного миссионерского общества 39 (в извлечении читано 27 марта 1894 г. в общем собрании полтавского отделения Православного миссионерского общества)
В истекшем году нашим миссионерским комитетом отправлена значительная сумма денег в г. Казань в распоряжение Переводческой комиссии Православного миссионерского общества, как об этом и доложено было собранию в прочитанном сейчас годовом отчете нашего комитета. Посему, с благословения преосвященнейшего владыки, на сей раз я честь имею занять просвещенное внимание почтенного собрания сообщением кратких исторических сведений о деле и деятельности названной Переводческой комиссии. Вопрос этот есть вопрос о духовном просвещении инородцев. Кроме своего, в данном случае, так сказать, частного, интереса, вопрос этот имеет и высокий общий интерес ввиду того глубокого значения, какое имеет дело Переводческой комиссии для всех миссий среди многочисленных инородцев нашего обширного отечества.
Когда в великий священный день Пятидесятницы впервые раздалось мощное, огненное слово проповеди святых апостолов, тогда каждый из бывших в Иерусалиме пришельцев, явившихся из разных стран от разных народов, услышал святые слова на родном для себя языке. По сообщению книги Деяний апостольских, вот как слушатели апостольской проповеди засвидетельствовали совершившийся факт: мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их (то есть святых апостолов) нашими языками говорящих о великих делах Божиих (Деян. 11:8–11). Этот факт стал руководственным на все времена для Церкви Христовой.
Православный Восток, приобщая благу христианства новые народы, всегда старался доставить новопросвещенным возможность читать слово Божие и совершать богослужение на родном для них языке. Когда западные проповедники пытались ограничить чтение слова Божия и совершение богослужения только теми тремя языками, которые употреблены были для таблички на Кресте Христа Спасителя, то есть языками римским, греческим и еврейским, то восточные проповедники признали в этом трехъязычную ересь. Таким образом, священная и богослужебная книга на языке, понятном для народа, всегда была первым и неизменным спутником православного проповедника истины Христовой.
Так, с перевода священных книг на местный народный язык начали свой высокий просветительный подвиг среди славян святые братья – священник Константин-философ и святитель Мефодий, епископ Моравский. Так продолжаемо было дело апостольское и в нашем отечестве среди иноверцев во времена древние. В XIV веке святитель Стефан, епископ Пермский, свою проповедь среди зырян-пермяков начал с перевода священных книг и с устроения богослужения на языке зырян. В XVI веке соловецкий инок преподобный Феодорит для своей проповеди среди обитающих на севере России лопарей перевел святое Евангелие на язык этих иноверцев. Так действуют миссионеры наши и в настоящее время; этот принцип лежит в основе и Переводческой комиссии Православного миссионерского общества. Правда, и у нас против перевода слова Божия на языки инородческие раздавались голоса подобно возражениям, шедшим из Рима. Как повествуется в житии святителя Стефана, написанном иноком Епифанием, «нецыи, скудни умом суще, реша: пошто сотворена суть книги пермския грамоты? И прежь сего издавна в Перми не было грамоты... Аще ли и се требе бысть, достояше паче русская готова суща грамота». «И в новейшее время многие восставали, – как говорит в своих воспоминаниях о Н.И. Ильминском К.П. Победоносцев, – против школьного обучения и богослужения на инородческих языках, так что, хотя мысль учить вере каждое племя на языке его вполне согласна с апостольским заветом и есть единственное средство для просвещения, – мысль эта нашла для себя осуществление не без борьбы». Однако все возражения не в силах были остановить у нас великого Божия дела.
В пределах нашего обширного отечества с древнейших времен вмещается много инородцев финского и монгольского племен, которые занимают по преимуществу северо-восточный край Руси и необозримые пространства Сибири. В настоящее время всех инородцев насчитывается в России около 15 миллионов; при этом около 11 миллионов находится в Европейской России и около 4 миллионов в Азиатской России. Из них нехристиан около 10 миллионов, причем 6 миллионов магометан, а остальные язычники. Магометанами являются главным образом татары и племена с ними соседствующие. Язычество у инородцев исповедуется исключительно в форме грубого шаманства и ламаизма. Все эти инородцы совершенно чужды нашему славяно-русскому населению и по крови, и по языку. По справедливому замечанию отчета Переводческой комиссии, «для инородцев наш язык так же труден, как для нас греческий, почему свободное понимание русской речи и книги у инородцев может явиться при весьма широкой постановке дела просветительного».
Такую недоступность нашего языка для инородцев сразу поняли первые насадители среди них христианства. Посему-то вышеупомянутые деятели – в XIV веке святитель Стефан и в XVI веке преподобный Феодорит – усиленно заботились о насаждении христианства в северо-восточном крае именно на доступной инородцам почве местных языков. В XVI же веке, когда Казанский край присоединен был к России, в новооткрытой епархии является действующим среди инородцев в таком же духе святитель Гурий, первый епископ Казанский. Святитель Гурий также первой обязанностью своей считал просвещение местного населения, погрязшего в тьме язычества и магометанства. Устроенные переводы священных книг, богослужение и уставная проповедь на языках, понятных для инородцев, несомненно производили свое глубокое благодетельное воздействие. Благодаря этому в древнейшие времена являются массовые обращения инородцев в христианство. Разумеется, в деле просвещения инородцев, как и во всяком сложном и великом деле, если очень важна инициатива, то не менее важно продолжение и развитие ее. Первые святители начали просвещение; после них в последующее время необходимо было надлежаще поддержать, продолжить и развить его, и именно в духе первых проповедников-основателей. Однако, к прискорбию, в действительности мы видим обратное: неблагоприятные исторические условия жизни не дали окрепнуть и развиться счастливо начатому здесь просветительному делу, и оно постепенно заглохло. Вместо чистого христианского учения усиливается здесь двоеверие и распространяется магометанство. Правда, в последующей истории мы видим ряд внешних мероприятий относительно язычников и магометан, которые вызвали даже массовые обращения в христианство инородцев Северо-Восточной Руси; однако эти обращения хотя были значительны в количественном отношении, но в качественном оставляли желать слишком многого. «Во многих случаях обращения производимы были путем внешней приманки; при этом обращенные таким путем язычники и мусульмане по большей части почти всецело предоставляемы были сами себе относительно усвоения правил и порядков христианской жизни. Ближайшие духовные руководители новокрещенных, приходские священники в инородческих приходах, по недостаточному знакомству с инородческими языками оказались не на высоте своей задачи и не могли обнаруживать в сколько-нибудь значительной степени нравственно-просветительного влияния на новых чад Церкви Божией. Притом и самое богослужение при редкости храмов в инородческих местностях совершалось на непонятном для христиан-инородцев славянском наречии. Были, конечно, исключения; были пастыри, прекрасно знавшие инородческие языки и самоотверженно трудившиеся над нравственным воспитанием приобретенных ими из язычества и магометанства новых членов Церкви Божией, но общее положение дела было таково, что крещеные инородцы Казанского края в большинстве оставались христианами только по имени. А между тем магометанство здесь с течением времени успело настолько окрепнуть, что появилась даже усиленная пропаганда его». Так как магометанство распространилось прежде всего и по преимуществу у татар и так как у них имеется своя письменность, то принимавшие магометанство от татар инородцы из других племен этим путем обыкновенно подвергались и отатариванию. Поэтому принятие мусульманства здесь в народе обозначается характерным термином – «выйти в татары». Таково было положение просветительного дела инородцев в течение, можно сказать, всего времени XVII и XVIII веков.
Со скорбью взирала Церковь Русская на такое печальное состояние инородцев, бывших чад своих и их ближайших соседей, но в то время она лишена была возможности помочь горю. Для просвещения инородцев потребны были люди, нарочито уготованные, знающие надлежаще не только божественное учение, но также знающие местные языки и местную жизнь. Если у нас никогда не бывало недостатка в людях ревностных и достаточно просвещенных светом истин Христовых, то зато не всегда между ревностными и просвещенными были, как замечено выше, люди, знающие языки инородческие, а потому не всегда были люди, подготовленные для просветительной деятельности среди инородческой массы. В XVIII веке люди, более углублявшиеся в положение дела, как, например, известный И. Посошков, видели и указывали на необходимость изучить инородческие языки и перевести на них нужные книги. Впоследствии в Ставрополе даже велено было учредить инородческую школу и переводить при ней Новый Завет на калмыцкий язык. Но из всего этого ничего не вышло. Дело это продолжало оставаться в области ожиданий и надежд.
В первой половине XIX столетия замечаются особые усилия и оживление в заботах о духовном просвещении инородцев; для этой цели мы видим соединение вместе усилий Церкви и государства. В 1803 году издано было высочайшее повеление, после которого были сделаны и затем напечатаны переводы некоторых из священных и религиозно-нравственных книг на языках татарском, чувашском, черемисском, мордовском и калмыцком. В тридцатых годах работал над переводом для инородцев алтайских основатель Алтайской миссии архимандрит Макарий (Глухарев). Потом, в сороковых годах и позже, когда в среде инородцев Казанского края обнаружено было необыкновенно сильное движение в пользу мусульманства, когда обнаружены были десятки тысяч отступников от христианства, тогда вышеуказанное издание переводов было повторено. Однако дело в этих попытках очень далеко было от совершенства. Достоинства всех этих переводов были невысоки. Например, о качествах мордовского перевода можно судить по следующему отзыву, который дал о нем Святейшему Синоду Серапион, архиепископ Казанский. «Перевод, – сказано в его рапорте, – сделан студентами низших классов Казанской духовной академии, кои чаятельно и сами порядочно мордовского не знали».
Таковы были качества и прочих переводов. Почти все переводы оказались совершенно непонятными народу главным образом потому, что переводчики не умели отрешиться от русской расстановки слов и не могли войти в дух инородческой речи. Что касается татарского перевода, то его недостатком было еще то, что он сделан был не на народный татарский язык, а на искусственный татарско-арабско-персидский, на котором пишут казанские муллы; этот перевод, естественно, оказался совершенно недоступен для народа. Потому эти заботы о духовном просвещении совсем не достигли своей цели.
Мало того, инородцы не только продолжали коснеть во тьме языческо-мусульманской, но усиленно стали выходить в татары, особенно в краях Приволжских и Приуральских, становясь все более чуждыми великому русскому народу по вере, по языку, по нравам и быту. По признанию компетентных местных наблюдателей жизни, если бы еще и после этого не явились решительные и целесообразные средства для просвещения инородцев, то через несколько десятков лет в Приволжском крае миллион чувашей отатарился бы, а к чувашской массе примкнули бы черемисы и вотяки. Таким образом, в недалеком будущем во всем Казанском крае получилось бы огромное многомиллионное магометанское население с татарским языком. Такое мрачное положение дела было в половине XIX столетия. Дело просветительное здесь, по изволению Божию, еще ждало своей чреды по исполнении времен. Новая заря, вполне осветившая инородческую языческо-магометанскую тьму, восходит со второй половины текущего столетия. Она открылась в деятельности талантливого и самоотверженного труженика Николая Ивановича Ильминского, которого, видимо, само Божественное провидение предызбрало и уготовило на сие великое и святое дело. Н.И. Ильминский 40, сначала профессор арабского и татарского языков, а потом директор инородческой учительской семинарии в г. Казани, убедившись в непригодности произведенных раньше переводов на инородческие языки, в начале шестидесятых годов по собственной инициативе сам стал делать новые переводы на инородческие языки. Для этого завязал он самые живые сношения с инородцами, при которых создал себе деятельного помощника в лице природного татарина Василия Тимофеева 41. На основании глубокого изучения языков, характера и жизни инородцев, на основании личного опыта Ильминский выработал целую систему просвещения инородцев. Так как на этой системе теперь построена почти вся деятельность нашей миссии среди инородцев, то нам представляется небезынтересным привести основные черты этой системы.
Для прочного насаждения духовного просвещения среди инородцев, по признанию Ильминского, кроме проповеди необходимы другие меры, постоянные, мирные и систематические; таковыми являются построенные на религиозных началах школа и книга. «Книга и школа нераздельны: среди малограмотного и малоразвитого населения книга не может получить распространения, если ее не разъясняет и не вводит в народное употребление священник и учитель; но Церковь и школа сами остаются пустыми, если в них не читают на языке, понятном инородцам. Таким образом, для книги необходима школа, для школы необходима книга». Как обучение в школах, так и молитва в храме должны быть поэтому на языках безусловно доступных для народа, то есть на языках местных инородцев. На народных языках должно быть начато обучение в школе и учение в храме; только после такого начала возможны в дальнейшем прочные успехи по русскому языку и совершение богослужения славянского. Вследствие этого учитель и священник необходимо должны или сами быть из инородцев, или в совершенстве владеть инородческими языками; само собой понятно, так же совершенно должны они владеть и русским языком. Так как инородческие языки всей восточной полосы России и Сибири в своем внутреннем устройстве между собой поразительно сходны, то переводы на все означенные языки могут быть сведены к одной системе: с одного из этих языков можно бы почти буквально переводить на другие. Таким основным текстом Ильминский находит наиболее целесообразным признать текст татарский. При переводе на татарский язык должно быть сосредоточено все внимание переводчиков как на точности смысла содержания, так и на филологической правильности построения татарской речи; уже с этого перевода можно переводить на другие инородческие языки буквально, не прегрешая против смысла и их своеобразной конструкции. Переводы должно делать непременно на живой разговорный язык. Окончательная отделка переводов, так чтобы они были складны по языку, ясны и понятны и притом производили бы на слушающих и читающих инородцев впечатление серьезное и благоговейное, а не подавали бы повода к недоразумениям или смешным представлениям, – такая окончательная обработка непременно должна производиться при помощи коренных инородцев.
Безусловно авторитетный в этом деле Ильминский сам сознается так: «Я знаю по собственному опыту, занимаясь татарским переводом около тридцати лет, что тому, кто не вырос в инородческой семье, невозможно узнать всех тонкостей и оттенков, всех психологических глубин их языка». Сам Ильминский поэтому свои переводы проверял, нарочито отправляясь для этого в деревни и лачуги к инородцам. Чтобы облегчить впоследствии изучение русской грамоты инородцами, для внешнего объединения и дабы не одолжаться у монгольской культуры, Ильминский рекомендует употреблять непременно русский алфавит для всех инородческих языков, между тем как прежде употребляемы были для этой цели алфавиты арабский, персидский, турецкий. Чтобы наш алфавит вполне передавал все оттенки звуков речи инородческой, Ильминский сделал в нем соответственные приспособления. На таких началах Н. И. Ильминским составлена и напечатана на татарском языке первая книжка «Букварь (с синодального издания)» в 1862 году; с этого года ведут свою хронологию новые миссионерские издания на инородческих языках. В соответствии этой системе первая литургия на татарском языке совершена была в г. Казани в 1869 году знатоком этого языка иеромонахом Макарием (Невским) 42, ныне епископом Томским и Семипалатинским.
На первых порах Н. И. Ильминский работал над своими переводами частным образом и единолично, на свой страх и всецело на свои средства.
Это и неудивительно, так как в средине настоящего столетия вследствие различных колебаний в духовной жизни нашего высшего общества образовалось неблагоприятное отношение к делу перевода Священного Писания на современный русский язык, такое отношение, естественно, сказаться должно было и на переводах на языки инородческие. Когда же восторжествовала мысль о переводе Священного Писания на русский язык, тогда же Ильминский получил общественную поддержку. Поддержку оказало ему открытое в 1867 году казанское Братство святителя Гурия. Это почтенное Братство в течение всего времени своего существования неустанно работало на дело распространения христианского просвещения в среде инородцев и на дело воспитания их детей в духе православия посредством правильной и целесообразно устроенной школы. Так как Ильминский работал не только над переводами, но и открыл у себя народную школу для детей инородцев, в которой учительствовал вышеназванный татарин В. Тимофеев, то от Ильминского Братство святителя Гурия могло получить готовый тип инородческой школы. Этот тип действительно широко применен был к делу Братством.
Тут-то, при устройстве школ, дала себя почувствовать нужда в целесообразно написанных инородческих книгах. За книги на инородческих языках высказались в это время и такие лица, авторитетные в миссионерском деле и глубокие знатоки инородческих языков, как Иннокентий Алеутский, впоследствии митрополит Московский, Дионисий Якутский 43, ныне епископ Уфимский, Мартиниан Камчатский 44, ныне епископ Таврический. Разумеется, удовлетворить этой потребности одно лицо и случайные переводчики не могли, тут требовалась систематическая и прочная постановка дела. И вот у лиц, близко стоявших к делу просвещения инородцев и сердечно относившихся к нему, зарождается и постепенно зреет мысль об учреждении нарочитой постоянной комиссии переводчиков с целью систематического, последовательного перевода священных, богослужебных и других христианских книг на инородческие языки. Осуществление этой мысли во всей ее полноте по материальным средствам оказалось непосильным для юного казанского Братства; для такого крупного предприятия потребна была постоянная поддержка из более сильного источника. Таковая поддержка действительно и явилась из усердной на дела веры Москвы.
Председатель открытого в 1870 году в Москве нашего Миссионерского общества митрополит Иннокентий 45, внимательно следивший за деятельностью Ильминского и разделявший его взгляды относительно просветительных задач отечественной миссии, решился принять переводческое дело под покровительство Миссионерского общества. По поручению митрополита от имени Миссионерского общества протоиерей А. И. Ключарев, ныне архиепископ Харьковский Амвросий, вошел в сношения с казанским Братством, и по надлежащем выяснении дела Переводческая комиссия была открыта при Братстве святителя Гурия в г. Казани в 1876 году. Председателем новооткрытой комиссии был избран Н.И. Ильминский, а в постоянное руководство для нее были приняты вышеизложенные нами его принципы. В состав комиссии в качестве руководителей вошли профессора Казанской духовной академии Г.С. Саблуков, В.В. Миротворцев и потом М.А. Машанов, П.А. Юнгеров и другие лица. В качестве исполнителей являются природные инородцы: чувашин И.Я. Яковлев, татарин В. Тимофеев, черемисин Г. Яковлев, вотяки Б. Гаврилов и Кузьма Андреев, бурят Я. Чистохин, мордвины А.Ф. Юртов и М.Е. Евсеев, затем знатоки тунгусского языка прот. С. Попов, остятско-самоедского языка И.П. Григоровский, гольдские миссионеры священники братья А. и П. Протодиаконовы и многие лица из местных учителей и священников. Особенно деятельную помощь комиссии после архиепископа Казанского Антония обнаружил обер-прокурор Святейшего Синода граф Дм. А. Толстой и попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков. На нужды комиссии Миссионерское общество ассигновало ежегодно сначала четыре, а потом пять тысяч рублей. Однако, принимая во внимание грандиозность всего дела, нужно признать, что эта сумма настолько невелика, что исполненное комиссией дело можно было вести только при полном бескорыстии председателя и большинства членов, отказавшихся от назначенного им из этой суммы жалованья. Пятнадцатилетняя совершенно безмездная деятельность в комиссии Н.И. Ильминского и напечатанные им на собственные скромные средства переводы, по справедливому признанию отчетной комиссии, представляют собой его многотысячный дар просветительному делу.
Преследуя цели учебно-воспитательную и богослужебную, комиссия в течение 15 с лишком лет своего существования занималась постепенными переводами святого Евангелия, некоторых из ветхозаветных книг, книг богослужебных и молитвенников, букварей, книг нравственно назидательных для взрослых и для детей и даже книг житейски полезных, каковы, например, брошюры, изданные по случаю бывшей холерной эпидемии. Для лучшего познания народной речи и в видах более совершенного исполнения переводов комиссией изданы также некоторые лучшие образцы народного языка и поверий, каковы образцы мордовских народных песен и сказок. За эти последние издания Переводческая комиссия подверглась резким порицаниям, но она не без основания настаивает на их необходимости. Таким образом, в настоящее время создается и отчасти уже создана для потребностей школьных и богослужебных целесообразная письменность на инородческих языках приволжских: на татарском, чувашском, на двух наречиях мордовского языка, на вотском, на двух наречиях черемисского языка и на киргизском; на языках сибирских инородцев: алтайском, бурятском, калмыцком, тунгусском, гольдском, якутском и остятско-самоедском. Переводы на языках приволжских инородцев и сибирских, на языках алтайском и якутском все составлялись и печатались в Казани; переводы на остальных сибирских языках составлялись на месте и в Казани лишь исправлялись и печатались. Например, в течение одного 1892 года издано в Казани комиссией на семи инородческих языках книг 55 названий в количестве 164 909 экземпляров. Общее количество изданных комиссией книг и брошюр в настоящее время определяется уже несколькими сотнями тысяч экземпляров.
«Весь труд этот, известный сравнительно немногим, только близко заинтересованным вопросом об инородческом просвещении, – справедливо говорит один из казанских деятелей, – труд этот поистине колоссален». Подвинуть на этот труд, а тем более совершить его могла только великая любовь к темным людям и живое сознание важности просвещения их светом христианской веры и Божия слова, которыми воодушевляемы были главный начинатель и руководитель переводческого дела Н.И. Ильминский и его сотрудники. Довольно указать на то, что переводы эти составляют целую библиотеку различных книг на 15 различных языках и в количестве многих сотен тысяч экземпляров. К этому надобно добавить, что переводы эти сделаны очень внимательно и тщательно проверены по живому говору каждого инородческого племени и потому вполне удобопонятны и вразумительны для инородцев.
Переводческая работа идет непрестанно и теперь, и библиотека инородческих переводных книг непрерывно пополняется новыми выпусками их. Труд казанских переводчиков возбудил удивление и в иностранцах, когда им случайно пришлось познакомиться с ним. Несколько лет тому назад, сообщает К.П. Победоносцев, в Альзасе, в городе Мюльгаузе, почтенный реформаторский пастор Матье устроил учреждение под названием Библейский музей и начал собирать туда со всей вселенной издания Священного Писания на всевозможных языках и наречиях. Услышав от кого-то, что и в Руси есть кое-какие переводы на инородческие языки, он обратился, говорит Константин Петрович, ко мне за сведениями и пришел в крайнее изумление, получив огромный ящик книг Священного Писания, изданных в Казани; имея самое превратное понятие о нашей церковной жизни, лютеране не ожидали от нас ничего подобного. Правда, еще слишком много упорного труда предстоит комиссии, так как далеко не весь Новый Завет переведен даже на татарский язык; на калмыцком же, например, языке миссионерские издания начаты только с 1892 года. При этом в конце 1891 года Переводческая комиссия понесла невознаградимую потерю: умер незабвенный председатель ее Н.И. Ильминский. Однако все переводческое дело теперь уже представляется настолько основательно организованным и прочно поставленным, что можно и впредь вполне надеяться на надлежащее продолжение его с Божьей помощью.
Заботами Братства святителя Гурия и при содействии Переводческой комиссии с течением времени в г. Казани и в других местах целесообразно организованы были и затем прочно поставлены в материальном отношении образцовые инородческие училища, которые стали рассадником грамотности и духовного просвещения для самых глухих мест среди инородцев. Таковы казанская учительская семинария для всех инородцев, директором которой был сам Н.И. Ильминский, казанская центральная крещено-татарская школа, симбирская чувашская учительская школа и центральное вотское училище в д. Карлыган Вятской губернии. Не забыто при этом и женское образование у инородцев: для женщин открыты школы при крещено-татарской в г. Казани и при чувашской школе в г. Симбирске. Все питомцы этих школ – инородцы – возвращались в родные деревни, они являются там лучшими распространителями грамотности и христианского просвещения. Они выступают у себя дома обыкновенно в качестве народных учителей, но немало вышло из них и достойных священнослужителей, именно: из инородцев до 1892 года рукоположены были 61 священник и 14 диаконов. Не остались в долгу эти школы и у Переводческой комиссии: с первых же выпусков они дали прекрасных переводчиков-исполнителей.
Устроение богослужения на инородческих языках Святейший Синод с 1883 года всецело предоставил усмотрению местных преосвященных. Благодаря трудам Переводческой комиссии и заботам преосвященных оно теперь устроено во многих местах; постепенно вводится богослужение на инородческих языках полностью или только отчасти в разных местах приволжских губерний и Сибири.
В настоящее время на татарском языке богослужение совершается в 73 церквах, на чувашском – в 37, во многих – на алтайском языке, начинается понемногу и на других языках. «Когда мы вспомним, – говорит казанский профессор Знаменский, – то глубоко трогательное и истинно просветительное влияние, какое имеет православное богослужение на души верующих, и представим себе одно то, что с открытием в Казани богослужений на татарском языке открывается для крещеных татар настоящее богатство христианских истин... и неиссякаемый источник святых радостей и религиозного умиления, то не можем не признать за этим событием, за открытием богослужений на татарском языке, великого церковного значения, не можем не разделить высказываемого людьми, сочувствующими делу христианского просвещения инородцев, мнения, что введение богослужения на татарском и других инородческих языках для здешнего населения есть заря того света, который должен просветить незрячих, есть залог духовного перерождения инородцев и слияния их с русским народом на лоне православия».
Введение богослужения среди инородцев на местных языках действительно везде производило необыкновенное впечатление. В татарских деревнях при первоначальном введении богослужения на народном языке счастливые исполнители этого дела всюду встречали необыкновенное умиление, слезы радости, восторженные восклицания: «Рахмят синга, атей! Биг рахмят!» (Спасибо тебе, отец! Большое спасибо!)
Переводческая комиссия, таким образом, вместе со всеми нашими инородческими миссиями точно руководствуется словами Христа Спасителя: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф.6:33). Преследуя одни задачи просветительные, она совершенно чужда искания в своем деле житейских и политических целей, столь свойственного западным христианским миссиям. Однако не напрасно ищущим Царствия Божия и правды его Спаситель сказал: и это все, то есть житейские блага, приложится вам. Среди наших инородцев мы теперь уже воочию можем наблюдать исполнение сих слов Спасителя. Путем пробуждения духовной жизни у инородцев уже теперь замечается поднятие их нравственного уровня, а с тем вместе и материального благосостояния. Мало того, Переводческая комиссия в своем отчете за прошлый год замечает, что она не может не поделиться с обществом патриотической радостью, что ее бескорыстная забота о христианском просвещении инородцев дала еще отрадные видимые результаты: эти результаты оказываются в сохранении массы инородцев от отатаривания, в сближении их с русскими, в органически мирном слиянии их с русскими в один православный народ.
Так Божиим благословением, скажем словами Писания, в нашей Галилее, за Иорданом – Волгой, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет (Мф.4:16).