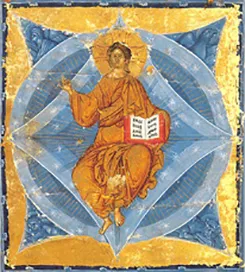Архимандрит Макарий (Глухарев), основатель Алтайской миссии 36 (слово прочитано 21 февраля 1893 г. в публичном заседании полтавского отделения Православного миссионерского общества)
В истекшем отчетном миссионерском году, именно 8 ноября 1892 года, исполнилось сто лет со дня рождения архимандрита Макария (Глухарева), основателя Алтайской миссии, родоначальника того дела, которое почтили вы, милостивые государи и милостивые государыни, своим настоящим собранием. Так как личность отца Макария, справедливо называемого апостолом Алтая, вследствие его достоинств столь же высока и почтенна, как и начатое им само дело миссии, то я, с благословения его преосвященства, на сей раз честь имею предложить вашему просвещенному вниманию краткие сведения о его жизни и миссионерской деятельности.
Архимандрит Макарий, известный в мире с именем Михаил Яковлевич Глухарев, родился в городе Вязьме Смоленской губернии. Детские годы его протекли в скромной обстановке приходского священника, под благодетельным воздействием любящей матери и просвещенного отца. Здесь он получил задатки той глубокой христианской любви к ближнему и той неизменно честной преданности долгу, которыми отличался он в течение всей своей последующей жизни. Образование его было начато рано; в родительском доме под руководством отца даровитый мальчик сделал такие необыкновенные успехи, что семи лет уже мог заниматься переводами с русского языка на латинский. Школьное обучение при самых суровых педагогических приемах и условиях школьной жизни того времени Михаил Глухарев проходил сначала в вяземском училище и затем в Смоленской духовной семинарии. Пребывание его в последнем классе семинарии падает как раз на время нашествия Наполеона на Россию и последовавшего затем его бегства из нее. Юный Михаил Яковлевич разделял общее патриотическое воодушевление всех русских людей того времени, огорчаясь успехами врага и радуясь затем торжеству отечественных сил.
После окончания курса семинарии Михаил Яковлевич некоторое непродолжительное время проходил должность учителя в Смоленском духовном училище; уже отсюда поступил он в состав учащихся новооткрытой тогда Санкт-Петербургской духовной академии. Здесь Михаил Яковлевич, по замечанию его биографов, сразу обратил на себя внимание товарищей и начальства как студент необыкновенно талантливый и в высшей степени внешне благовоспитанный и общительный. Архимандрит Филарет (Дроздов), ректор академии, впоследствии знаменитый митрополит Московский, также обратил особенное внимание на выдающегося во всех отношениях студента Глухарева, затем не оставлял его своим вниманием и руководством в течение всей последующей жизни.
В настроении образованного общества того времени господствовали, как известно, направления мистическое и франкмасонство. Естественно, направления эти всего более давали себя чувствовать в столице; поэтому в Петербурге пришлось познакомиться с ними и Михаилу Яковлевичу. В среде тогдашних мистиков не было недостатка в лицах, готовых употребить все свое старание для завлечения в свою среду даровитых студентов. Рассказывают, что один раз затянули и Михаила Яковлевича на радение госпожи Татариновой. Осторожный новичок не пошел в самый зал собрания, но наблюдал происходившее радение через дверь из соседней комнаты. Здесь он увидел, как собиравшиеся члены общества, переодевшись в длинные белые балахоны и прикрыв лица башлыками или капюшонами, появлялись в зале и тихо и чинно шествовали один за другим вокруг стен зала, как потом их медленное движение становилось оживленнее, быстрее и наконец переходило в бешеное кружение, при котором они как будто еле только касались пола ногами... Все увиденное произвело на Михаила Яковлевича сильное впечатление и сразу же оттолкнуло его от себя, так что он из дома Татариновой бежал без оглядки и явился домой даже без шляпы, которую в поспешности забыл захватить. Так, то здоровое направление, которое получил он дома и которое своими письмами поддерживали в нем любящие и образованные его родители, спасло его от всяких пагубных увлечений в столице.
Дальнейшее знакомство со столицей производит прямой перелом в Михаиле Яковлевиче: из живого и общительного он становится весьма сдержанным и молчаливым. С течением времени весь свой юношеский пыл отдает он изучению Священного Писания, мысль о переводе которого на русский язык овладела в то время вниманием правительства и общества. И впоследствии, когда взгляды у правительственных лиц на дело перевода Священного Писания изменились, М. Я. Глухарев все-таки оставался верным ему и занимался изучением и переводами Священного Писания на русский язык до конца своей жизни, чем приобрел себе весьма почетное место в истории богословской науки и христианского просвещения в России.
После окончания курса в академии с отличным успехом Михаил Яковлевич назначен был инспектором в Екатеринославскую духовную семинарию, известную в то время своими непорядками. Здесь он всей душой предался педагогическому делу, но не встретил себе поддержки и сочувствия ни в среде недостойных своих сослуживцев, ни у начальства, а напротив, нажил себе много огорчений. Утешение кроткий Михаил Яковлевич находил себе в молитве и в обществе немногих друзей. «Ах, какой это черствый хлеб – любить врагов своих», – высказывался он перед друзьями. Скоро по приезде в Екатеринослав Михаил Яковлевич исполнил созревшее в его сердце намерение: с именем Макарий он принял монашество и к обычным своим педагогическим трудам присоединил иноческие подвиги.
Через три года после этого отец Макарий переведен был в Костромскую духовную семинарию ректором, с возведением в сан архимандрита. Замечательно, что и здесь отца Макария встретили почти те же педагогические трудности и огорчения, какие испытать ему пришлось в Екатеринославе. Замечательно также и то, что на дело назначения его на эти служебные поприща, столь усеянные терниями, влияние оказывал именно столь участливо относившийся к отцу Макарию митрополит Филарет. Так, по словам отца Макария, владыка Филарет «продолжал воспитывать его стропотным 37 путям». «Из меня, – говорил он в другой раз, – этими стропотными средствами выжимали всякую сырь, все, что казалось недовольно чистым».
В Екатеринославе и в Костроме, несмотря на оказанное ему противодействие, чистая душа отца Макария оказала глубокое нравственное воздействие на подведомственную ему духовно-училищную среду. Об этом можно судить по следующим о нем отзывам одного из его костромских воспитанников, именно, архиепископа Казанского Афанасия (Соколова): «Моей душе отец Макарий всегда присущ как наставник, из уст которого лились сладчайшие возвышенные речи... Славлю и величаю благодать Божию, которая осязательно для меня проявилась в сем наставнике». Однако труды педагогические и строгие аскетические подвиги сильно пошатнули здоровье отца Макария, и поэтому через три года службы в Костроме он попросился на покой. Прежде чем уволить отца Макария, Святейший Синод вызвал его в Петербург. Здесь отцу Макарию предложен был епископский сан, но он решительно отказался и настоял на своей просьбе об увольнении. После этого на непродолжительное время является отец Макарий в числе братии Киево-Печерской лавры, а затем поступает в состав Глинской Богородицкой пустыни, что в Курской губернии.
В Глинской пустыни в положении простого монаха под руководством тамошнего мудрого игумена Филарета отец Макарий нашел себе полное нравственное удовлетворение. «Это школа Христова, – писал он об этой пустыни, – это одна из светлых точек на земном мире, в которую дабы войти, надлежит умалиться до Христова младенчества». Трехлетнее пребывание в Глинской пустыни было последней жизненной школой перед выступлением его на миссионерское поприще. Так Господь готовил благовестника Своего имени для язычников, населяющих горные цепи Алтая.
В 1829 году случайно проник в Глинскую пустынь слух о возникшем в Святейшем Синоде проекте образовать постоянную миссию для распространения христианства среди языческого населения Сибири. Замечательно, что отцу Макарию сообщил об этом бывший иноверец М. А. Атлас, человек очень образованный и глубоко религиозный. М. А. Атлас по рождению был католиком и православие принял в зрелом возрасте, убедившись в превосходстве учения Православной Церкви. Этот господин Атлас так высказался пред отцом Макарием: «Ты человек просвещенный, тебе надобно других просвещать, а ты засел здесь. Иди, проповедуй Евангелие сибирским язычникам. Вот Святейший Синод ищет такого человека». Услышал это отец Макарий, и душа его почувствовала свое настоящее призвание. Влечение к новому святому делу заставило замолчать его телесные недуги, он как бы ожил, ободрился и немедленно послал в Синод прошение о дозволении ему идти на проповедь Евангелия язычникам Сибири. Разрешение Синода скоро последовало, и отец Макарий отправился в Тобольск к тамошнему преосвященному, которому была поручена организация миссии. По прибытии в Тобольск отец Макарий, с согласия и благословения местного преосвященного Евгения, избрал себе двух сотрудников из семинаристов и составил руководительные для миссии правила. Будучи потом утвержден Святейшим Синодом в звании начальника миссии, местом для предстоявшей деятельности он избрал себе Бийский округ, заселенный татарами, теленгутами и киргизами, почти сплошь язычниками.
Взяв с собой походную церковь и вещи, потребные для богослужения, отец Макарий вместе со своими спутниками отправился на проповедь в избранный Бийский округ. Здесь сразу встретилась масса чрезвычайных трудностей и опасностей физического и нравственного характера. Вот как протоиерей Стефан Ландышев, сотрудник и потом преемник отца Макария, описывает ту интересную и вместе с тем опасную местность, по которой пробираться приходится миссионерам-путникам: «Алтай великолепен, как Афон: повсюду грозно-величественные картины природы в чрезвычайно разнообразном смешении с видами невыразимо приятными. То вековые льды в виде изумляющих величием шатров и конусообразных столбов, возвышающихся над Алтаем и исчезающих в синеве небес, то самая роскошная флора. Как будто разноцветные ковры разостланы по горам и долинам на свободных от леса местах. Надоблачные скалы увенчаны всегда зеленеющими кедрами. Долины и ущелья прободают скачущие реки и речки, и никогда не замерзающие ключи. Красота и величие Алтая возвышают дух до восхищения; смотря на эти горы Божии, невольно чувствуешь какой-то благоговейный ужас. По этим крутизнам должны пробираться проповедники слова Божия, отыскивая кочевых жителей, рассеянных по ущельям и лесам Алтайских гор. У каждого из нас сердце замирает и кружится голова, даже привычный конь дрожит иногда при переезде по высокому бому – это узкая тропинка (3/4–1 аршин), опоясывающая гору, где по одну сторону тропинки – высокая скала, а по другую – отвесный обрыв до речки, которая синеет внизу, как ленточка, – особенно, когда приходится перескакивать через большие камни, на этой тропинке высунувшиеся, или спускаться вниз по довольно гладкой каменной плите и делать крутые повороты лицом к обрыву...» Такие опасности и трудности приходилось испытывать отцу Макарию с его спутниками, и однако этими трудностями далеко не исчерпывались физические тяготы миссионеров.
Сразу же поразило отца Макария не только холодное, но и крайне враждебное к нему и его спутникам отношение, которое по разным причинам выказывали им местные жители. Прежде всего крайне враждебными показывали себя в этом случае населявшие Бийский округ раскольники. «В первые же дни пребывания нашего в Бийске, – пишет отец Макарий в своем дневнике, – дошел до меня слух, что прибытие наше в сей край некоторые из раскольников изъясняют как знамение, прости нас Господи, антихристова пришествия. Иноверцы же здешние, наслышавшись между русскими об антихристе, боятся его, хотя не веруют во Христа. Иные сказывали им, будто у меня рука от самой кости покрыта шерстью скота или зверя какого-то, будто я кого крещу, того в солдаты берут. Некто утверждал даже, будто один казак, сидевший спиной ко мне во время езды, без намерения оглянулся назад и увидел зверя, сидящего в повозке, почему вскричал от ужаса – но потом, оглянувшись вторично, он увидел, будто я опять принял вид человека... Столько сразу явилось о нас странных пререканий не только у инородцев здешних, но и у русских, в особенности у раскольников. Но Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль!»
Настроение раскольников вполне передалось инородцам. Зайсаны и религиозные вожди местных язычников старались поддерживать в местном населении враждебное отношение к отцу Макарию также по непонятному духу религиозного соперничества. Враждебность инородцев обнаруживалась уже в том, что они отказывались дать миссионерам приют в своих юртах во время всякого рода непогоды. Каковы эти юрты, можно видеть из следующего описания протоиерея Стефана Ландышева: «Берестяная юрта алтайца представляет собой кочевье, где развешано мясо издохшего коня или убитого зверя, расположена посуда, которую никогда не моют, где на 6–8 квадратных аршин располагаются люди и животные, где вместо печки или камина имеется один очаг... При 30–40 градусах мороза здесь дым выедает глаза, здесь мороз и жары сходятся вместе и производят на голову обитателя свое пагубное действие... Таково место успокоения для алтайского миссионера после продолжительной верховой езды; здесь отдых – но здесь храм и кафедра для проповеди...» И вот подозрительные и враждебные кочевники на первых порах и в таком приюте отказывали отцу Макарию и его спутникам!
Особенное затруднение на первых порах составляло для отца Макария незнание им инородческих языков и недостаток в хорошем толмаче: это затрудняло для него и общежитейские сношения с алтайцами, и самое дело миссии. Отец Макарий на месте сам должен был заняться изучением инородческих языков и затем создать на них религиозную письменность. Вот как образно описывает отец Макарий это трудное дело изучения языков: «Мы как бы ходили по миру и побирались: накопляемое нами собрание татарских слов и речений уподоблялось суме нищего, в которой куски всякого хлеба, и мягкого и черствого, пшеничного и ржаного, и свежего и загнившего, все без разбору смешано, и все вместе составляет тяжелую ношу. Бедняк, который воздыхал прежде, смотря на пустую суму свою, теперь, когда сума его сделалась полна, опять воздыхает, зная, что носимое им бремя не может освободить его от горькой бедности. Таковы были наши добычи в знакомстве с различными наречиями, употребляемыми в различных племенах инородцев... Тут были слова кумандинцев, черновых татар, телеутов, алтайцев; всякой всячины накопилось столь много, что нелегко было привести сие хаосное смешение в стройный порядок».
Но отец Макарий вышел победителем из этого затруднения. Скоро им составлен был обиходный словарь для всех местных наречий; скоро же потом явился у него и хороший толмач в лице одного из новокрещенных им инородцев. С помощью этих средств отец Макарий изложил потом на языках алтайских инородцев молитвы, Символ веры, десять заповедей, а также перевел священные книги Нового Завета; впоследствии он издал на этих языках составленные им сборники гимнов («Лепта») и разные назидательные и полезные книги.
Весьма затруднял отца Макария и крайний недостаток в материальных средствах, так как миссия в то время располагала самыми скудными, почти нищенскими средствами. Этих средств он, довольствовавшийся меньшим малого, требовал, конечно, не для себя лично, а на самое дело и для помощи новообращенным христианам. О скудости денежных средств миссии можно судить по следующим словам одного из писем отца Макария: «Пакет ваш с десятирублевой ассигнацией, – писал отец Макарий одному из благотворителей, – получен мною в пути, когда у меня ни копейки не оставалось в кармане и когда, выходя из церкви после обедни, должен был занять рубль у церковного старосты, которому и отдал долг из денег, присланных вами. Нужно ли говорить, что усердию вашему соответствует душа моя чувствами признательности?» Из этой краткой выдержки также видно, на какие лишения при миссии обрекал себя отец Макарий из любви к страждущим собратьям.
При таких тяжелых условиях начато и затем в первое время ведено было в Сибири апостольское дело проповедования язычникам слова Божия. Для этого нужны были могучая нравственная сила и иноческий закал отца Макария. Недаром первые из взятых им спутников не выдержали этих трудностей: один заболел и скончался, а другой скоро совсем оставил миссионерское дело. Отец Макарий не отступил от начатого дела: он всего себя отдал миссии и победил все трудности, завещав в своей личности и деятельности высокий образец для подражания всем последующим работникам миссионерского благовествования имени Христова.
Отец Макарий пользовался всяким случаем для проповеди и при всех обстоятельствах действовал с одинаковой апостольской ревностью, растворенной сердечностью и глубокой любовью к ближнему. «Один раз, например, – рассказывают, – зайдя в татарскую юрту для проповеди, он нашел там только татарку, которая была занята стряпней, да еще ребенка, плакавшего в колыбели. Отец Макарий начал свою проповедь, а татарка стала слушать, но расплакавшийся ребенок мешал и говорить, и слушать. Отец Макарий, заметив желание татарки слушать слово Божие, подсел к колыбельке и, закачивая ребенка, продолжал учить мать».
Отец Макарий исполнял не только прямо миссионерские обязанности, но шел навстречу всем духовным и телесным нуждам инородцев, как только узнавал о них. Был случай, когда он, навещая крещенных им татар, зашел в юрту к ясачному 38 и увидел, что ясачный опасно болен. Отец Макарий поспешил напутствовать ясачного исповедью и святым Причастием; после этого больной на глазах духовника скончался. Зная, что христианского кладбища там нет, отец Макарий, недолго думая, положил покойного в свою повозку и привез его за 60 верст оттуда к христианскому селу, где и обратился с просьбой к священнику дать в своем саду место покойнику. Священник подумал: пожалуй, он этак всех мертвецов ясачных станет возить ко мне в сад и класть. Отец Макарий, провидя мысль его, сказал: «Вот дьявол внушает тебе, что я всех мертвецов стану возить к тебе и класть в твой сад. Нет, отец, недостоин ты сего мертвеца принять в свой сад». Положив покойника снова в свою повозку, отец Макарий отвез его на деревенское кладбище, верст за шесть от села, сам выкопал могилу и похоронил его.
С особенной любовью относился отец Макарий к детям. Как рассказывает один из учеников его инородцев, после беседы с возрастными отец Макарий почти всегда окружал себя малыми ребятами. «Тут он рассказывает им из священной истории, учит их кратким молитвам, поет с ними «Господи, помилуй» и «Аллилуйя» и более понятливым и усердным в награду даст лакомство. Сколько при этом веселия и радости для ребятишек! Весел бывал в эти минуты и сам отец Макарий – его чистая душа радовалась, глядя на невинное веселье тех, о которых Христос сказал: их есть Царство Небесное. Любил отец Макарий детей, и они любили его!» Эти занятия с детьми были лучшим отдыхом для отца Макария.
Таковы труды отца Макария, которыми подвизался он во славу Божию и на пользу наших меньших сибирских братьев в течение четырнадцати лет. И Господь благословил эти труды. Несмотря на сильное противодействие, какое оказывали фанатические приверженцы язычества не только миссионерам, но и новообращенным христианам, к концу своего пребывания на Алтае отец Макарий имел утешение видеть своих новокрещенных детей во Христе в количестве до семисот человек. Все они знали на своем родном наречии молитвы и учение веры, а многие могли и сами читать святое Евангелие. Среди суеверных, ленивых и крайне неопрятных язычников Алтая этим положено прочное начало для распространения христианства и для распространения бытовых улучшений к правильной и здоровой жизни. Высоко ценя это ревностное служение отца Макария, Святейший Синод по высочайшему повелению возложил на него золотой крест, украшенный драгоценными камнями.
За время пребывания своего на Алтае отец Макарий совершил из Сибири одну поездку в Петербург и Москву, где собрал обильную жертву для новообращенных христиан Алтайской Церкви. Интересным оказывается при этом следующее обстоятельство: на обратном пути из столиц отец Макарий сделал остановку в городе Казани и здесь с разрешения попечителя учебного округа выслушал университетский курс лекций по предмету татарского языка, а также лекции по некоторым отделам медицины. Ознакомившись с медициной, он постарался привить среди инородцев элементарные правила гигиены и врачебной помощи (например, оспопрививание). Кроме прямого назначения медицины отец Макарий имел в виду этим парализовать суеверное отношение инородцев к языческим знахарям и ламам, которого отрешиться там не могут и до настоящего времени. Мысль отца Макария не пропала даром: среди алтайских инородцев теперь при святых храмах можно найти не только школы, но и больницы.
Усиленные труды миссионерские окончательно расстроили и без того некрепкое здоровье отца Макария; особенно острый характер приняла у него болезнь глаз, грозившая ему слепотой. Поэтому он просил Синод уволить его от службы на Алтае. Святейший Синод прось6у отца Макария исполнил и назначил его настоятелем Оптина Болховского монастыря Орловской губернии. В 1844 году с плачем проводили от себя отца Макария его духовные чада и сотрудники. Хотя отец Макарий оставил их телом, он всегда пребывал с ними духом. Своими письмами он постоянно наставлял и утешал своего преемника и духовных детей. Неоднократно выражал он желание найти для себя и место для вечного успокоения среди гор Алтая, но его желанию не суждено было сбыться.
В Оптином монастыре отец Макарий прожил три года, являя собой образец подвижника, исполненного духа высшей любви и свободы во Христе, образец наставника непросвещенных, утешителя смущенных и огорченных. Здесь он явил собой тот высокий образец исполненного Христовой любви и мудрости старца, с которым в художественной форме познакомил русское общество один из наших знаменитых писателей-психологов (Достоевский) в лице почтенного и симпатичного отца Зосимы. Отец Макарий скончался 18 мая 1847 года в Оптином монастыре, где он и погребен. «Однако, – как восклицает один из учеников его, преосвященный Афанасий, – он не умер, он жив в Господе, жив во многих, которых просветил святым крещением, богоглагольным учением и житием добродетельным!»
Начатое отцом Макарием благовестническое дело неизменно продолжается и поныне. По последним отчетным сведениям (за 1891 год), на Алтае имеется уже христиан-инородцев более 26 тысяч человек обоего пола, молитвенных домов и церквей у них 46, училищ 26, два монастыря, детский приют, больница и несколько странноприимных домов. В настоящее время, по показанию непосредственных наблюдателей, «там, где прежде бродили кочевники или влачили жалкое существование язычники, калмыки и татары, без всякого духовного света, без понятий о нравственности, в состоянии полной первобытной дикости, мы видим теперь благоустроенные деревни с мирно трудящимся населением, в праздничные дни возносящим в многочисленных и благоустроенных храмах молитвы Богу, слушающим Христово учение и православные богослужения на своем родном языке и в жизни руководящимся высокими правилами Божественного учителя». Так посеянное любовью отца Макария благодатное семя, подобно зерну горчичному, по действию Божией благодати в пятьдесят с лишком лет возросло в великое дерево (Мф.13:31).
С радостью в заключение отметим мы, господа почтенные члены общества, тот утешительный для нашего христианского сознания факт, что и мы не лишены участия в совершении этого великого просветительного дела, так как в нем есть и доля нашего нравственного и материального участия.